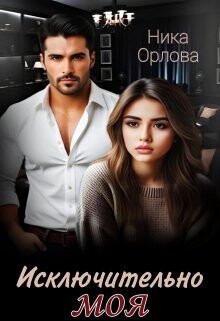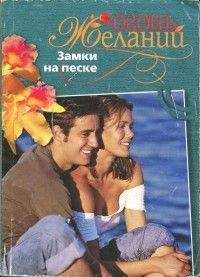Рейд в опасную зону. Том 2 (СИ) - Купцов Мэт
Глава 16
Мы с Сашкой шагаем по деревенской дороге. Глядя на Колесникова, думаю о том, ведь не просил он меня о помощи.
А по факту –я рядом.
На войне Сашка надежный и верный товарищ, не щадит себя, а тут в мирной жизни все не так просто… Наскоком ничего не решить.
И тут до меня доходит — любил он свою жену. Эту непутевую красивую Настю. Тем больнее и подлее ее предательство.
И променяла его на кого? Был бы мужик достойный, лучше Сашки, куда бы еще не шло. А такой выбор жены, еще раз унизил Колесникова.
Выходит, боялся он сам себя, как бы не разобраться с этими двумя по-настоящему…
Наконец мы дошли.
Сельсовет перед нами, деревянное здание, свежеокрашенное и с вывеской.
Входим внутрь. Здесь тепло и светло. Сельсовет пахнет старым деревом, бумагами и чем-то, что сложно назвать, но сразу понятно — здесь решают дела.
Председатель Ефим Иванович сидит за столом, как будто ждал нас. Лет ему под шестьдесят, лицо строгое, но глаза тёплые, настоящие. В сапогах, в рубашке под свитером. Простой, но грозный — в своей деревне он царь и бог. На нас смотрит пристально, особенно на Сашку.
— Здравствуй, Колесников, — кивает и мне. — Здравствуй, товарищ капитан, — Голос у него низкий, весомый, — Тебе чего? –смотрит на Колесникова.
Сашка, вроде, приготовился, но всё равно дёргает плечом.
— Документы. Печать поставить надо. На службу, вы же знаете, Ефим Иванович, я ненадолго, — голос у него глуховатый, но твёрдый.
Председатель долго смотрит на Сашку. Потом вздыхает. Бумаги берёт, медленно, со значением, читает, кивает.
— Уважаю тебя, Колесников. Ты воюешь, а Настя… — он замолкает, будто взвешивает слова. — А Настя твоя… гуляет. Не до конца ты её удержал, видно.
Сашка краснеет. Злость в нём, будто искры, проскакивает.
— Ефим Иванович, я на войне, а вы… не надо про Настю. Лучше… — он спотыкается, но продолжает. — Лучше про сына моего, про Славку. Пока меня нет, проследите, чтобы Валерка… — он поднимает глаза, и в них вся боль. — Чтобы Валерка его не обижал. Вы же знаете, он шкодник.
Председатель хмурит густые седые брови, поднимается со своего скрипучего стула. Он не кричит, но его голос пробирает до самых костей.
— Ладно, Колесников. Прослежу. Славка твой парень хороший, крепкий. Настю твою поругаю — заслужила. А Валерку… приструню, если надо будет. Не переживай. Ты своё дело делай, а тут порядок будет.
Сашка кивает, и я вижу, как его плечи чуть опускаются, будто груз немного сполз. Мы прощаемся. Ефим Иванович нам руку жмёт — крепко, по-мужски. Смотрит в глаза — каждому. В его взгляде всё — уважение, обещание, уверенность.
Когда выходим, будто мир стал немного спокойнее.
— Ну что, доволен? — спрашиваю.
Сашка улыбается, совсем чуть-чуть, в этой улыбке благодарность и какая-то гордость.
— Спасибо, Беркут. Теперь к тебе. Ты же чай приготовил? Или опять воду забыл вскипятить? — усмехается он.
Колесников, словно приходит в себя, после неприятной процедуры, которую пришлось ему пройти здесь у себя дома после предательства жены, переживаний о сыне Славке.
Но жизнь продолжается.
— Сашка, ты сам-то, кроме того, как землю топтать, что умеешь? — огрызаюсь я с улыбкой, и мы шагаем дальше, оставляя за спиной сельсовет с его теплом и строгим, но добрым Председателем.
Теперь наша дорога — ко мне.
Едем снова на поезде, и на следующее утро выходим из вагона в моём родном городе. Холодный ветер скользит по перрону, цепляется за воротник формы. На часах 7:35 утра. Солнце встает лениво, будто кто-то толкает его сзади. У вокзала запах угольного дыма смешивается с ароматом свежеиспеченного хлеба. Я невольно вздрагиваю — запах детства.
— Эй, Беркут, ну и глухомань у тебя, — Колесников стягивает берет, поправляет волосы. — Смотри, а мужиков- то тут хватает и без нас, — кивает он на местных у газетного киоска.
Те сразу уставились на нас, как будто два марсианина сошли с поезда.
— Ты рот-то закрой! — бросаю, — А то решат тебе накостылять, я выручать не буду, — усмехаюсь я.
— Да ладно тебе, — говорит он, поправляя ремень. — Местным надо знать, что десантники приехали — порядок навести.
Перрон заканчивается, и мы входим в зал ожидания. Витражные окна, покрытые затейливым узором, дрожат от каждого проходящего мимо состава. Вокзалы, кажется, ни в одном городе, с тех пор, как я был пацаном, не изменились. Те же деревянные скамейки, облупившаяся краска на стенах и бабка с тележкой, продающая семечки.
Колесников идет рядом, легкой походкой, руки в карманах. Оттаял парень. Ещё вчера он был совсем другой — угрюмый, молчаливый, как будто внутри себя закрылся. Теперь снова шутит, язвит, как раньше. Я радуюсь, хоть виду не подаю. Сашка в строю — это хорошо.
— А знаешь, Беркут, — он вдруг замедляет шаг, — у тебя тут какая-то особая атмосфера. Чувствую, как будто я в фильме «Весна на Заречной улице». Сейчас из -за угла девчонка с косой появится.
— Обрадовался! Это все твои фантазии, так что не надейся.
Сашка смеется, как раньше. Я снова думаю, как мало времени у нас бывает на простые вещи — вроде этой дороги по перрону.
В Афгане ты такого не ценишь.
Едем на трамвае до адреса, написанного на клочке бумажки. В отделе кадров выцепил.
Смотрю с любопытством в окно, какой он — мой город. Знакомый и незнакомый одновременно.
Такое не объяснишь даже другу.
Выходим на остановке, и я вхожу в ступор.
Стоят рядами серые панельные пятиэтажки — хрущёвки. Все похожие друг на друга, как инкубаторы. Даже виду не подаю, что иду наугад.
Иду, вычитывая номера домов.
А вот и оно!
Заходим в подъезд, поднимаемся по ступеням лестницы на третий этаж, незнакомая деревянная дверь. Я стучу три раза. За дверью слышится шорох, цепочка дрожит. Дверь приоткрывается, и на пороге появляется… мама.
— Глеб! — она вскидывает руки, глаза блестят от слез. — Сынок, ты вернулся!
Она тут же обнимает меня, крепко, как только мать может обнять сына, которого не видела долго. Её ладони шершавые, но тёплые и родные.
— Мама, это Саша Колесников, мой товарищ.
— Здравствуйте, Саша, заходите, заходите, вы, наверное, голодные! Снимайте ботинки, идите в комнату.
Проходим внутрь. На стенах обои с цветочками, хотя кое-где пятна от времени. В углу стоит массивная польская стенка — гордость мамы. На полках фотографии, книги, хрусталь.
Из кухни тянет запах борща.
— Идите сюда, — зовёт она. — Кушать будем.
Она приготовила большущую кастрюлю борща, будто ждала роту солдат. Впрочем, сегодня это почти правда.
Мы с Сашкой сидим на кухне. Я разглядываю свою мать, которая суетится возле стола. Ей где-то пятьдесят пять лет, но выглядит она моложе — высокие скулы, прямой нос, губы, которые кажутся чуть сжатыми, будто она собирается что-то сказать, но не говорит. Волосы светло-каштановые с прядками седины, аккуратно уложенные в простую прическу.
На ней домашний халат — светлый в мелкий рисунок.
Она двигается быстро, но не суетливо — как человек, который знает, что каждая минута на счету. То чайник поправит, то конфеты в вазу переложит.
— Мам, — я наконец решаюсь, и она застывает с чайником в руках. — Я вспомнил, что Маша Озерова рассказывала про мое усыновление.
Мама поворачивается ко мне медленно, будто пытается оценить, насколько серьезно я настроен. Ее серые глаза на секунду опускаются, потом снова поднимаются и она смотрит прямо на меня.
— И что она рассказывала? — спрашивает она, улыбнувшись чуть-чуть как-то неестественно, натянуто.
— Про то, как меня взяли из детского дома, — говорю я прямо. — Мне ведь уже четырнадцать было. Да я и сам помню.
Она ставит чайник, слишком громко, чем собиралась.
— Ну… так получилось, — тянет она и садится напротив меня. — Мы с отцом долго об этом думали. Ты же знаешь, я детей любила всегда…
— Мам, ну не юли, — перебиваю я. — В чем был смысл? Зачем вам был нужен я, почти взрослый?