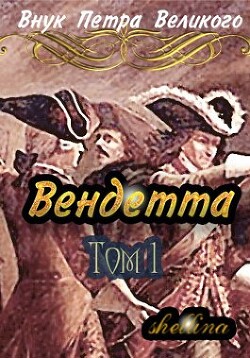Вендетта. Том 2 (СИ) - Шеллина Олеся "shellina"
— Она говорила, что ей страшно, и что только на условно своей территории может чувствовать себя в относительной безопасности, и что ваше величество прежде всего мужчина и обязан принимать страхи беззащитной женщины к сведению. В конце этой пламенной речи её свидетели уже смотрели на меня так, словно это я прилагаю все усилия к тому, чтобы отговорить ваше величество от встречи с её величеством так, где она не будет бояться и чувствовать себя наиболее защищенной. — Бехтеев закончил говорить и отошел от меня, убедившись, что я не собираюсь свалиться с дивана, сломав при этом вторую ногу.
— Это Луиза Ульрика-то беззащитная и запуганная женщина? — Я даже боль в ноге перестал ощущать. А ведь она была порой настолько сильной, что я еле сдерживался, чтобы не попросить того же Кондоиди дать мне немного опия. Но, нет, нельзя. Именно сейчас мой разум не должен быть затуманен.
— Она так говорит, и многие в это верят, — пожал плечами Бехтеев.
— Ломов прибыл? — прошло уже четыре дня после этого гнусного нападения на меня в моём же собственном доме. Изначально я хотел отправить Машку с детьми сразу же из дворца, но и она сама и окружающие убедили меня, чтобы я подождал хотя бы до похорон Ушакова и Юсупова. Им нужно было отдать дань уважения, и я быстро понял, что это важно даже не для них, а для меня.
Прощание с Ушаковым прошло тяжело. Юсупова я почти не знал, но всё равно заставил себя сказать несколько хороших слов. А вот Андрей Иванович… Я буквально заставил себя прийти на похороны. Долго стоял перед открытым гробом, а потом прошептал:
— Что же ты, старый пень, не поберегся? Как же я теперь без тебя? — помимо воли слова прозвучали горько. После этого я отошёл от гроба, и больше не проронил ни слова.
Меня поняли, как поняли, что горе моё совершенно искреннее. Об этом писали газеты и даже Румянцев посвятил целую статью в своём журнале. Во время моей пасквильной войны с Фридрихом я, благодаря гению Груздева, уловившего саму суть этой новинки, выиграл с разгромным счетом. И мои люди, имеющие хоть какое-то отношение к печатному слову, быстро поняли, что надо делать, чтобы преподносить информацию в нужном для меня и всей империи свете. Они все молодцы, а многое было придумано задолго до моего появления здесь. Нужно всего лишь не бить изобретателей по рукам, а всячески их поощрять. Так и получилось, что из всех изобретений, ведущих к прогрессу, конкретно мне принадлежали ручка, потому что я так и не смог научиться как следует писать перьями, и костыли, без которых я не мог ходить.
— Так где Ломов? — повторил я вопрос, потому что Бехтеев не спешил мне отвечать.
— Я не знаю, ваше величество. Гонец был послан сразу же, как только вы приказали его вернуть сюда. Но, пока что ни гонца, ни Андрея Ивановича я не видел.
— Дьявол, — ругнулся я, стукнув кулаком по бедру и чуть не взвыв от пронзившей ногу боли. Вот же кретин! — Почему так долго? — процедил я сквозь зубы.
— Ваше величество, прошло всего четыре дня. Разве ж это долго? — Бехтеев удивился, а мне захотелось побиться головой обо что-то твёрдое. Если целый университет ученых разной степени учености не придумает мне быстрый способ связи, я скоро начну буйствовать и всем демонстрировать, какой я самодур.
— Заткнись, — я поднял палец вверх. — Вот лучше о том, что долго, а что нет, мне не напоминай.
— От того, что я не буду об этом говорить, ничего на самом деле не изменится. И Ломов не получит сообщение быстрее, чем сможет доставить гонец, и приехать он быстрее, чем его несёт верный конь, тоже не сможет. — Ответил Бехтеев.
— Вот об этом мне и не нужно напоминать, — произнёс я с нажимом. Бехтеев склонил голову, показывая, что понял моё требование, каким бы нелепым оно ни было.
Дверь распахнулась и в кабинет вошёл тот самый Ломов, о котором мы только что говорили. Он был одним из немногих, у кого было право входить ко мне без доклада. Его плащ был запорошен снегом, ресницы покрыты инеем, а с полей шляпы свисала сосулька.
— Ваше величество, я спешил, как только мог, когда узнал про то, что случилось. Так уж получилось, что я уже направлялся домой. Мне сказали, что за мной направили гонца, но, похоже, мы с ним разминулись. — Его голос звучал глухо от усталости и холода.
— Слава богу, — я закрыл глаза и перекрестился. Никогда не был набожным человеком, но сейчас Турка явно вело ко мне провидение. — А теперь иди и отдыхай. В бане обязательно попарься. Не хватало ещё, чтобы заболел.
— Я так рад, что с вами и его высочеством всё обошлось, — выпалил Турок, поклонился и вышел из кабинета, а на его лице застыло чувство облегчения. Словно он бежал сюда и сам не верил, что найдёт в кабинете живого и относительно здорового императора. И теперь, когда убедился, то можно со спокойной душой и в баньку пойти.
— Фёдор Дмитриевич, будь другом, придвинь ко мне стол и подай чистые листы. Письмо мне надобно написать. Как подашь всё, можешь пока быть свободным, понадобишься, позову.
Бехтеев понимающе хмыкнул. Он догадывался, кому именно я буду писать письмо, и что в этом письме будет написано. Я прекрасно мог бы и ему поручить это дело, вот только такие письма нужно было писать всё-таки собственноручно. Чтобы показать личное отношение. И хотя моё истинное личное отношение можно было охарактеризовать пятью словами, из которых приличными и не матерными были только предлоги, писать придётся совершенно обратное. Увы, но таковы были правила игры, и не мне эти правила менять.
Учитывая ганноверские корни Георга, письмо я писал на немецком языке.
«Мой дорогой царственный брат, я пишу тебе, чтобы сообщить страшные и печальные новости. Наверняка до тебя уж дошли слухи о ужасном покушении на меня, на королеву Швеции Лузу Ульрику и, самое главное, на моего сына и наследника Павла. К счастью для всех нас это покушение закончилось почти неудачно. Но я всё же потерял несколько очень близких мне людей, и с прискорбием хочу сообщить тебе о гибели твоего верного подданного маркиза Дернского, который проявил истинно английскую мужественность, пытаясь спасти этого гнусного предателя Фредерика Датского из-под завалов. Я не знаю его мотивов, но могу предположить, что сделал он это исключительно потому, что не разобрался в ситуации…»
Я отложил ручку и задумался. Этот козёл Дерн так привык к обожанию, или в крайнем случае настороженному опасению, что не внял моим вполне определенным угрозам и попытался быковать. В итоге он я взбесился, а завести меня и сейчас пока можно с полтолчка, и приказал провести допрос с пристрастием, используя все доступные следователю методы. При этом я лично присутствовал на допросе.
Это был первый и, я надеюсь, последний раз, когда при мне пытают человека. Не могу не признавать ценность этих методов, по-другому иной раз невозможно получить нужную информацию, хотя я сам считаю пытки малоэффективным методом. Но, положа руку на сердце — в случае с Дерном в них особой нужды не было. Я и так знал всю подноготную, Фредерик играть в героя наотрез отказался и очень быстро сдал всю контору, схватив ходящими ходуном руками бокал с вином.
Маркиз Дернский опроверг мифы о невероятной стойкости англичан. Если сначала он крепился, но, когда ему начали спицы по ногти загонять, сдулся, как воздушный шарик и начал говорить. Правда, всю дорогу он не переставал кричать, что я отвечу, и за него жутко отомстят. Я открыл рот во время допроса всего один раз, когда мне надоело слушать эти ничем не подкреплённые угрозы, и заявил ему, что на самом деле, такого товарища, как маркиз Дернский уже давно списали, никто за него мстить не будут и прекрасно переварят моё письмо о героической гибели маркиза, п родственники уже делят наследство, растаскивая исподтишка пододеяльники и простыни из Лондонского особняка. После моих слов он ненадолго задумался, насколько ему позволяла думать боль, но потом гонор возобладал над разумом, и он снова начал нести ахинею про собственную исключительность.
Умер он, к слову, не под пытками. На нём даже особо следов применяемого воздействия не было. Хороших мастеров воспитал Ушаков. Как же мне его не хватает. Погиб он так, чтобы всё было достоверно: на маркиза сбросили прилично так бревен и камней и дали под завалом полежать, если вдруг его не убила какая-нибудь каменюка. Я даже надеялся на то, что эта мразь будет умирать долго, чтобы он хотя в конце сумел прочувствовать всё то, что чувствовал я: беспомощность, страх, обреченность, правда, в моём случае, в большей степени всё это я ощущал из-за невозможности хоть как-то помочь своему ребёнку. Так что ему в любом случае будет легче. Хотя, тут как посмотреть, возможно, его собственная жизнь для него гораздо дороже, чем для меня жизнь моих детей.