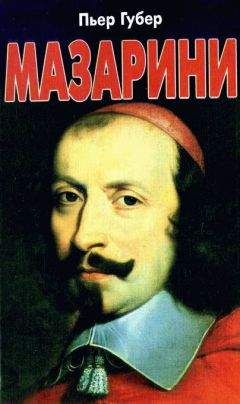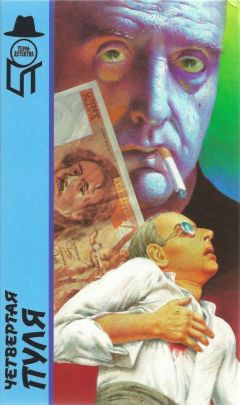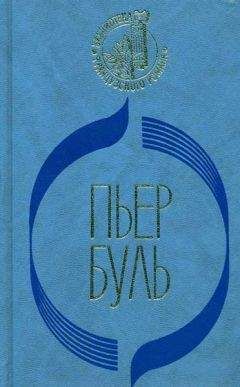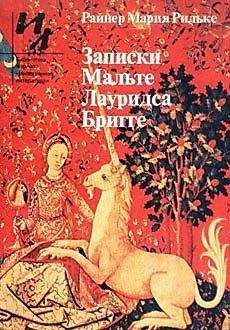Андрей Валентинов - Овернский клирик
Вначале я не поверил – настолько это показалось неожиданным. Странные знаки, идущие по окружности, не похожие ни на латынь, ни на греческий. Дэргские письмена! Необычный амулет для молодой крестьянки! Но тут же вспомнилось – каменная пластинка из дома вдовы де Пио. «Грехи дэргов»! Вдова говорила, что служила у д’Эконсбефа. Но ведь и Жанна…
Я взял амулет с собою, решив еще раз сравнить знаки с теми, которые перерисовал брат Умберто. Диск лежал на дне шкатулки, очевидно, им давно не интересовались. Что ж, и это можно понять – амулет принадлежал настоящей Жанне, а самозванке был не нужен и неинтересен – обычная бронзовая безделушка, о значении которой она могла просто не знать.
На улице уже было темно, и я пробирался во двор, стараясь не шуметь. Братья должны уже были приготовить ужин, иначе я устрою им всенощное чтение «Светильника»! Внезапно я услыхал негромкие голоса. Говорили на «ланго си», и вначале я просто слушал, как звонкий голос Анжелы, дочери Тино-жонглера, сменяется негромким, глуховатым голосом смиренного брата Ансельма. На душе сразу же стало скверно. Не люблю подслушивать, но не поворачивать же назад на темную улицу! Эх, брат Ансельм!..
– Не надо, дочь моя, – итальянец говорил спокойно, даже как-то тускло. – Мы оба понимаем, что это…
– Грех! Ну, конечно, святой отец! – Анжела горько засмеялась. – Послушай, красивый злой мальчишка! Я ведь не прошу тебя бросить монастырь. Я не прошу писать в мою честь канцоны…
– Монахи не пишут канцон.
– Зато монахи не отталкивают духовных дочерей!
– Это лжебратья.
– Что они с тобой сделали, дурачок? – девушка вздохнула. – Ну, дотронься до меня!.. Или тебе, сеньору, противно иметь дело с простолюдинкой? Успокойся, в такие минуты даже самые знатные сеньоры забывают, кто они.
– Я не могу забыть, донна… – голос парня стал совсем тихим. – Я принял обет… Извини, мне нужно идти.
– Иди! – мне показалось, что я слышу плач. – У тебя, наверное, много грехов, святой отец! То, что ты сегодня оттолкнул меня – тоже грех. Будь ты проклят!
– Прости, дочь моя.
Я кашлянул. Тени замерли, затем та, что пониже – Анжела, – метнулась в сторону. Я подошел ближе.
– Ужин готов, брат Ансельм?
– Да, отец Гильом.
– Пойдем.
Я дотронулся до его плеча и слегка подтолкнул к порогу. Он не сопротивлялся.
– Долго ты ходить за дровами! – воззвал Пьер, увидев итальянца. – Похлебка стынуть.
– Ничего. – Ансельм присел на скамью и отвернулся.
– Все готово, отец Гильом! – Пьер поставил на стол деревянное блюдо с хлебом. – Сегодня я сам варить…
– Суп с неопределенной формой глагола, – вяло прокомментировал итальянец и внезапно повернулся ко мне:
– Отец Гильом! В обители о таком не спрашивают, так что можете сразу посадить меня за «Светильник»…
– О чем вы хотели спросить, брат мой? – поинтересовался я, жалея, что в присутствии простодушного нормандца нам не удастся поговорить откровенно.
– Вы ведь были женаты, отец Гильом?
– Брат Ансельм! – тут же вмешался Пьер. – Не надо об этом! Ты что, не знать?
– Все в порядке, брат Петр…
В Сен-Дени старались не бередить старых ран. О моей истории все знали – но ни разу даже не намекнули, за что я был им очень благодарен.
– Все в порядке, брат Петр, – повторил я – Да, брат Ансельм, я был женат. Когда я женился, мне было почти столько же, сколько тебе сейчас.
– Извините, что спрашиваю, но для меня это важно. Если бы ваша жена и сын не погибли, вы бы стали монахом?
– Брат Ансельм! – воззвал Пьер безнадежным голосом.
Да, о таком обычно не спрашивают. Но если спрашивают, я отвечаю честно.
– Нет, брат Ансельм. Их смерть – не единственная причина, но если бы Инесса была жива, я бы не стал бенедиктинцем.
Странная вещь! Я много лет запрещал себе вспоминать прежнюю жизнь – слишком болело, – но сейчас говорил совершенно спокойно, словно рассказывал о ком-то другом.
– Ее звали Лейла, но я называл ее Инессой. Ей нравилось это имя.
…Это имя она должна была получить при крещении, но не успела. Я слишком часто покидал ее, торопясь в бой во имя моего сюзерена, вероломного Балдуина Иерусалимского.
– Я увидел ее в небольшом селении около Мосула. Мы вели переговоры с Касимом абу Ирманом. За неделю до этого он захватил какой-то караван. Инесса была дочерью купца, и он взял ее в свой гарем. Ей было четырнадцать лет… В тот день – вернее, в тот вечер – мы разговаривали всего несколько минут. Я успел передать ей кинжал и несколько золотых, чтобы она подкупила стражу. Она бежала, и я встретил ее в пустыне.
…Это случилось ранним утром возле серой скалы, за которой начиналось русло сухой реки. Именно там она велела ждать. За ней мчалась погоня, но наши кони оказались быстрее.
– Так, наверное, не бывает, – медленно проговорил Ансельм. – Или бывает только в сказке.
– Наверное, – согласился я. – Теперь мне самому это кажется сказкой… Я догадываюсь, о чем ты хочешь спросить, брат Ансельм. Мы знали, что абу Ирман отомстит. Я несколько раз предлагал ей уехать в Овернь, но Инесса не хотела расставаться.
– Вам надо было уехать! – резко бросил Ансельм. Его тон удивил, но лишь в первое мгновенье. Я понял – итальянец сравнивает мою историю с чем-то своим, знакомым.
– Я был рыцарем, брат Ансельм. К тому времени я уже понял, что король Балдуин – не тот государь, которому служат с радостью, но я давал присягу. Рыцарь не может нарушить клятвы, как монах не может отступить от обета. Моя жена знала, что грозит нам. Как-то она сказала, что жизнь – не очень большая цена за несколько дней счастья…
– Значит… – парень замялся. – Вы ушли в монастырь не потому, что считали себя виновным…
– Ансельм! – рявкнул Пьер, позабыв даже про «брата».
– Нет. Она была женой рыцаря, который защищал священный град Иерусалим. Мы все рисковали жизнью – я, она, наш сын. И лишь Господь ведает, кому из нас больше повезло.
Ансельм молча кивнул, и по его лицу пробежала судорога. Я уже догадывался, что мучает парня. Но что мог сделать молодой итальянец? Хотя в семнадцать лет в монастырь уходят даже из-за ссоры с возлюбленной. Уходят – и вскоре риза начинает казаться свинцовой.
– Это… Ну… – Пьер явно спешил перевести разговор на что-то другое. – Отец Гильом, а почему священникам нельзя жениться?
– Что?!
Нормандец смутился, но сдаваться не собирался:
– Монах – он от мира уходить… ушед… ушел. Священник в миру жить. В деревне жить. Он обет не давать… не дает. Раньше священник жену мог поиметь… иметь… держать…
Сообразив, что глаголы и на этот раз его подвели, Пьер умолк. Я взглянул на Ансельма.
– Знаешь, брат Петр, я как-то спросил об этом у Папы, – самым спокойным тоном отозвался итальянец.
– У к-кого? – глаза Пьера округлились.
– У Его Святейшества. Мне тогда было лет десять, и я был очень любопытен. Старик меня выслушал, прищурился и спросил, что я сам об этом думаю.
Мне стало интересно. Похоже, парень уже успел кое-что увидеть в этой жизни. Мне приходилось беседовать с Папой, но, конечно, не о проблемах целибата.
– Я начал что-то говорить о высоком предназначении, о том, что священник все силы должен направить на службу Господу… Не смейтесь, отец Гильом, мне было всего десять лет. Его Святейшество изволил усмехнуться и назвать меня «ступато бамбино».
Нормандец слушал с раскрытым ртом. Нет, Папа не прав – глупым мальчиком Ансельма называть не стоило. Мальчик умен – даже слишком умен.
– А потом он мне объяснил, что решение принималось прежде всего для того, чтобы не дробились церковные имущества, особенно в сельских приходах. У любого священника всегда будет кухарка или экономка, но их дети не являются законными и не могут унаследовать его добро. Так сохраняется собственность.
Нормандец напряженно думал:
– А я слыхать, что эти… химатики могут жениться.
– Схизматики, – постаравшись не улыбнуться, уточнил я. – Потому они и схизматики. Впрочем, в Англии до сих пор священники женятся. Правда, сейчас за это взялись…
– Про это есть песенка. – Ансельм бросил на меня лукавый взгляд. – Про то, как в Англии узнали, что священникам нельзя иметь жен. Отец Гильом, разрешите воспроизвести? Она написана неплохой латынью.
Я изобразил глубокое раздумье, но возражать не стал. Кажется, появление дочери жонглера внесло бо́льшую смуту, чем я думал.
– Слух прошел по Англии, ведомый и гласный,
– с выражением начал итальянец,
– всполошив пресвитеров области Прекрасной.
Всех, кто благоденствовал в жизни сладострастной,
призывал к смирению Папы голос властный…
Тягостно предчувствуя оную утрату,
зыблются в доверии к римскому прелату.
И решают клирики, рвением объяты,
всем собором рассудить, можно ль быть женату…
Я знал эту песню – она имелась в библиотеке Сен-Дени в сборничке, который не всем давали в руки. Знал и то, что, не будь здесь Пьера, которого искушать поистине грех, я бы поговорил с Ансельмом совсем по-другому.