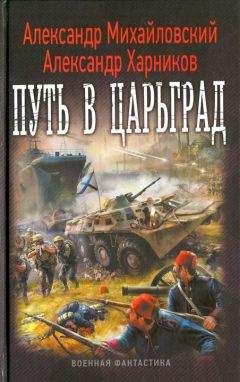Евгений Красницкий - Сотник. Беру все на себя
— Опять колдует, дырка сзаду…
— Да не похоже… молится… вроде бы… — неуверенно возразил Артемий.
— Какая молитва, етить тя в грызло? Молятся по-христиански, а тут половина слов непонятная… вообще все непонятно!
— А может он… это… и не Христу вовсе? Он же…
— Заткнись! — зло оборвал Артемия Демьян.
— Совсем вы там у себя в Ратном охренели, дырка сзаду… Или… Господи, спаси и сохрани… воины… детишки еще, а поди ж ты… вот оно, значит, как…
‘‘Дураки вы все! Поэзия, сама по себе, и есть волшебство. Просто потому, что выражает словами эмоции, которые большинство людей, сколь бы сильные чувства их ни обуревали, высказать или внятно описать их неспособны. Стихи говорят больше, чем описывают составляющие их слова, в стихах есть еще и ритм, и мелодия звучания последовательности звуков и… да черт его знает, что еще, и о чем надо спрашивать специалистов. Но и с точки зрения управления стихи — система, то есть, нечто большее, чем просто сумма слов — элементов этой системы.
Так набор деталей, скажем, пистолета, сложенный в кучку, еще не является самим пистолетом, пока детали не собраны, не соединены между собой в определенном порядке — не установлены связи между элементами системы. Только после этого совокупность деталей превращается в оружие. Чудо? Да, можно сказать и так — кучка железок несложной последовательностью манипуляций превращается в машину смерти, зловеще прекрасную в своей функциональности, и провоцирующую владельца своими красотой и удобством на ее применение. Недаром же очень многие относятся к оружию, как к почти живому существу… Провоцирующую на применение, то есть, порождающую мотивацию поведенческой реакции!
Но насколько более сложной системой, чем набор железок, является поэзия! Не только составленные в определенном порядке слова, но намеки, полутона, аллюзии, гиперболы… господи, сколько всяких терминов придумали специалисты, пытаясь поверить алгеброй гармонию! А поэт, даже не зная всей этой науки, творит чудо гармонии — создает систему, воздействующую на человеческое сознание столь мощно, что порой она способна породить мотивации, управляющие поведением миллионов людей! Ну, вот, хотя бы пушкинское:
Иль мало нас?
От стен Китая, до потрясенного Кремля,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?
А еще через сто с лишним лет, после создания этих строк, прозвучали другие:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.
Ни одного повторяющегося слова, но смысл-то один и тот же!
Что делает стихи бессмертными? Да то, что из года в год, из поколения в поколение, из века в век, они находят отклик в душах людей — выражают словами то, что сам человек не может не только высказать, но даже, зачастую, и понять. А еще дают радость, утешение, надежду, сопричастность к великому… позволяют вдруг обнаружить в словах никогда не виденного и даже давно умершего человека, собственные мысли и чувства… И тогда поэту верят безоговорочно ВО ВCЕМ, и находят в его строках рецепты поведения на любой случай жизни, как в… как христиане в Писании! Как там у Дольского:
Между явью и сном, как по лезвию,
ухожу на просторы великие,
где религия — только поэзия,
А Поэзия — это Религия’’.
О поэзии думалось хорошо. Возможно, профессиональный филолог счел бы эти мысли ересью, дилетантизмом или непроходимой глупостью, но они позволяли не думать об убитых мальчишках.
Глава 4
Когда добрались до скрытной стоянки на берегу Припяти, работы у Матвея оказалось выше головы. Он сунулся было оказывать помощь в первую очередь Мишке, но молодой сотник шуганул его, велев заняться теми, кто был ранен наиболее тяжело, а сам отдался в руки Роськи и Антона. Оба с готовностью занялись Мишкиными ранениями, но Мишкин адъютант молча сопел, видимо все еще переживая, что его не взяли в поход на Пинские причалы, а Роська ворчал под нос словно классический седоусый дядька, хлопочущий над новиком:
— Эк тебя по титьке-то резанули… ну, да ничего — не баба, дитя не кормить. А по плечу, видать, оголовьем двинули… пошевели-ка рукой.
— Да цела кость, цела… на, гляди. Шевелю, как видишь.
— Ну, вот и ладно, вот и хорошо… я только ссадину смажу от греха. А тут что? Так больно?
— Уй!
— Нет, Минь, это ж как надо было дернуть, чтобы ремень кистеня лопнул? Слава Богу, руку не оторвали… как ты меч-то после этого держал?
— Молча… ну, все уже?
— Сейчас, сейчас… о, Господи, у тебя по спине ходили, что ли?
— Ходили, даже подпрыгивали! А я подмахивал! Хватит, что ты как баба причитаешь?
— Да ладно, ладно… на вот, рубаху сухую надень. Поесть принести?
— Не надо.
— Тогда, может, поспать приляжешь?
— Ну да, мне сейчас только и разлеживаться… Значит так: я пойду, узнаю, как там с ранеными, а ты погляди, чтобы отроки в сухое переоделись, поели и…
— Так все уже, присматривают там…
— Тогда готовь одну ладью — раненых назад в Ратное отправить надо.
— Готовят уже.
— А грести кто будет? Надо с Дыркой…
— Уже договорились, он гребцов даст.
— А…
— И кормщика даст.
— Тьфу, что б тебя!
Мишка отчего-то еще больше разозлился, словно Роська ему перечил, хотя крестника, наоборот, надо было бы похвалить за распорядительность. Подумал немного, пытаясь сообразить, какие еще надо отдать распоряжения, ничего не придумал и поинтересовался:
— А кто там орет-то так? Вроде бы не отрок — голос взрослый…
— Не знаю… может, из огневцев кто-то… или из пленных…
Прямо на душе полегчало — наконец-то у Роськи не нашлось ответа.
— Мы что, и пленных взяли?
— Ага! Четверых, правда все раненые. А еще один боярин…
На берегу, рядом с причаленной ладьей раздались торопливые шаги и какой-то, не то обиженный, не то удивленный мальчишеский голос спросил:
— Господин сотник, дозволь обратиться? Отрок Парамон!
— Обращайся.
— Господин сотник, ногу-то хоронить по-христиански, или как?
— Чего?.. Какую ногу?
— Так это… отрезанную… то есть, отпиленную… это самое, лекарь Матвей пленному боярину ногу отъял и говорит: «Забирай». Я, значит, спрашиваю: «Чего с ней делать?», а он отвечает: «Можешь съесть или погреби с песнопениями».
— Шутник, блин…
— Чего, господин сотник?
— Закопай ее, где-нибудь… без песнопений.
— А…
— А крест ставить не надо!
— Ага… Слушаюсь, господин сотник!
Средневековая операционная (она же — перевязочный пункт) зрелище не для слабонервных, впрочем, и для зрителя с крепкими нервами — тоже не подарок. Дело даже и не в полном отсутствии анестезии — на худой конец, брыкающегося раненого можно и оглушить[9], и не в почти полном отсутствии антисептики — людей со слабым здоровьем детская смертность прибирала еще до достижения ими «призывного» возраста. Наряду с хирургическим инструментом, своим видом вполне подходящим для пыточных застенков и методиками, включавшими в себя такие, например, приемы, как прижигание каленым железом, было и еще кое-что, в исторических фильмах деликатно умалчиваемое.
Холодное оружие, как правило, наносило обширные ранения, сопровождавшиеся обильным кровотечением и, как следствие, быстрым падением кровяного давления, приводившего к потере сознания. Разумеется, при этом у раненого опорожнялся мочевой пузырь, а зачастую, и кишечник. Так что, кроме непосредственно обработки ран, приходилось еще и извлекать раненого воина из доспеха (тоже дело, отнюдь, не простое), обмывать и переодевать в сухое. И хорошо, если дело было летом, потому что зимой требовалось, при всех этих манипуляциях, умудриться не застудить и не обморозить пациента.
Вот во всем этом, среди крови, нечистот, криков, стонов, ругани и прочего, пребывал лекарский ученик Матвей. В заскорузлой от засохшей крови рубахе, с сосредоточенным, словно одеревеневшим лицом, он, казалось, не замечал ничего вокруг, кроме того раненого, который в этот момент был перед ним.
Руководил же всем остальным обозный старшина Младшей стражи Илья. Излучая каким-то, совершенно непонятным образом уверенность и владение тайным знанием, он распоряжался громким голосом и гонял приданных в помощь отроков в хвост и в гриву.
Когда Мишка подошел к «операционной», устроенной под навесом, Матвей как раз заканчивал с одним из раненых отроков. Выпрямился, отстранился и уставился остановившимися глазами куда-то в пространство.
«Господи, да как же он держится-то? Ведь пацан же еще!».