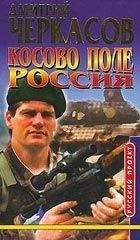Вячеслав Рыбаков - На мохнатой спине
Этот человек явно был заточен исключительно на общение с собственными подобиями или теми, кто смотрел ему в рот. С теми, кто либо вообще молчит, либо говорит с ним на одном языке. Если ему попадались иные, он этого даже не понимал.
Один язык — это очень важно, конечно. Скажем, для нас демократия — это всенародное одобрение, а для европейцев — беспрепятственная скупка. Для нас тирания — это коммунистов сажают, а для них — куш уплыл. Но надо же хотя бы вовремя соображать, кто перед тобой…
— А теперь смотрите, что получается. Сначала противопоставили себя всему свету. Вызвали его, так сказать, на бой кровавый, святой и правый. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. А когда свет наконец обратил на наш писк свое внимание, мы тут же заверещали: мы за мир! А зачем было играть в нелепую самостоятельность толстозадой ленивой России? Мы за мир, видите ли! И, разумеется, нам не верят. И правильно делают. Три года назад в Испанию вот полезли, а кто нас звал?
— Ее правительство, — сказала Надя. Я чувствовал, что ей, славной моей, нет, славной нашей девочке, что было сил хочется поддержать и защитить Сережку, но она не знает как. А тут все-таки был факт, и она сразу вставила словечко, не утерпела.
— Наденька, я тебя умоляю. Мы это правительство им поставили с условием, что оно нас позовет, оно нас и позвало. Ладно, морок кончился. В Испании наконец-то мир. Нет, нам опять неймется: понесла нас нелегкая за тридевять земель в Монголию воевать. В Монголию, ты только подумай! Где мы, а где Монголия? Не навоевались еще, что ли? Опять в войнушку кому-то поиграть захотелось? Сколько крови в Гражданскую было пролито — нет, не идет урок впрок. Я вам открою секрет Полишинеля: у нас нет иного врага, кроме собственного правительства. Если японцы Монголию хотят — отдать им, и дело с концом, только пусть приплатят. Сколько можно было бы выручить дополнительных средств для финансирования социальных программ, для повышения окладов ученых, например. В конце концов, на улучшение бытовых условий в лагерях…
Я улыбнулся.
— Разворуют, — сказал я. — Вы даже не представляете, наверное, насколько именно там, где вроде бы самый жесткий порядок, вольготно воровать.
Он влет, по одной этой реплике, принял меня за собрата и мигом отмяк. С его лица сошло праведное возмущение и вновь сменилось снисходительным добродушием.
— Ну, как раз это я вполне могу понять, — лукаво пророкотал он. — Однако, честное слово, не вижу в том ничего дурного. Все равно деньги пойдут на повышение благосостояния граждан, а это ведь главное. Не тех граждан, так этих… Не зря же солнце нашей поэзии, наше все, еще когда припечатал: ворюга мне милей, чем кровопийца! У самих народ с голой задницей ходит, а они монголам школы строят. А потом вынуждены сами же защищать эти школы от бомбежек. Двойной убыток.
— Папа, — не выдержала Надя. У нее даже голос дрожал. — Папа, Сережа ранен был в небе над этой самой Монголией.
Ученый посмотрел на Сережку, как впервые. Его апломб на миг словно бы стушевался — но только на миг.
— С твоих слов, Наденька, мне помнилось, что наш герой посвятил себя исследованию стратосферы, — проговорил он.
— Так и было, — невозмутимо ответил сын. — Но когда самураи вторглись, я попросил послать меня туда.
Будущий тесть поджал губы.
— Что ж, — задумчиво сказал он. — Человек, который по собственному хотению едет на другой край света, чтобы убивать живущих там людей, должен быть готов к тому, что в ответ его хотя бы ранят.
Бедная Надя уже не знала, что делать. Она не могла разорваться. Не могла ни Сережку бросить, ни на отца напасть. И тогда она сделала, наверное, лучшее, что может в такой ситуации женщина: невидимо для окружающих взяла под столом Сережкину ладонь с двух сторон обеими своими, погладила, а потом плотно прижала к себе чуть повыше колена. Меня опять прожгло вольтажом; не своей, так Сережкиной рукой я почувствовал преданную девичью плоть под паутинкой летнего платья. Вот что важно, говорила она руке; все остальное пустяки, а я тут, я твоя, дай срок — я заслоню тебя и утешу, и это будет самым главным в жизни.
И тогда ребенок показал, что не лыком шит.
— Я думал, — спокойно сказал Сережка, — крупные ученые еще помнят, что в Монголии живут монголы, в Китае — китайцы, а японцы — в Японии. Монголов я и пальцем не трогал.
Анастасия Ильинишна от такой дерзости беззвучно ахнула.
Но будущий тесть оказался непробиваем. А может, включил дурака.
— Ах, молодой человек, — сказал он, — вам просто не хватает образования. Раскопки близ Чжоукоудяня показывают, что распространение синантропа…
Минуты три он просвещал нас относительно последних достижений антропологии. Не знаю, смог бы он объяснить простыми словами, при чем тут разнообразие гипотез насчет этногенеза племен, заселивших Японию в незапамятные времена; в контексте разговора это была чистая авла-савла-лакавла.
Потом он неожиданно стал сбавлять обороты.
— А вообще, — сказал он, откидываясь спиной на спинку стула и как бы показывая этим, что инцидент исчерпан, — все это пустяки. Мгновение истории. Не лучшее ее мгновение, что и говорить, но одно из последних мгновений перед рассветом. Пройдет лет двадцать, тридцать… По историческим масштабам — безделица. И воевать станет незачем. Ведь люди воюют за ресурсы. Только дети тузятся из-за фантасмагорий типа «Моя мама лучше — нет, моя мама лучше». Взрослые люди гибнут, как говорится, за металл. Но и металл уже становится не так важен, как прежде. Главный ресурс — энергия. Когда энергии станет вдосталь, людям просто не из-за чего станет устраивать друг другу кровопускания. А это время не за горами. Вы, возможно, слышали о внутриатомной энергии? Рано сейчас говорить в деталях, но помечтать-то не вредно? Году этак в семидесятом, семьдесят пятом…
И вот мы опять благоговейно слушали, не перебивая. С этого момента, думал я, пожалуйста, поподробнее. Мне нужно было составить впечатление. Но он не шел дальше неопределенных сладких видений: из каждой розетки, дескать, польется неисчерпаемый поток счастья. Столько всего сможет невозбранно крутиться и вертеться, что и сам человек от полного довольства преобразится неузнаваемо. Ах, если бы ученые головы могли уже теперь снабдить надежными источниками внутриатомной энергии японцев и немцев, те тут же перестали бы щериться на остальной мир, сделались бы сытыми и добрыми, и угроза войны рассосалась сама собой. Изобилие ресурсов — залог миролюбия. Увы, все это благолепие еще не близко. Наука только-только подступается, а от теорий до практики — годы и десятилетия упорного труда… Так что истинной задачей нашего правительства, если бы оно и впрямь думало о людях и о мире во всем мире, было бы любой ценой затушевывать, нивелировать конфликты, сидя тише воды и ниже травы, жертвенно уступать передовым государствам и в Европе, и в Азии и тянуть время до того момента, когда мирный атом насытит людские амбиции и сделает жирный вечный мир неизбежным и необратимым. Вот тогда и нам с главных мировых столов начнут перепадать куски попитательней. Когда я понял, что к конкретике он сам не перейдет, я решил его малость потормошить; не зря же я чуть ли не ночь напролет готовился к встрече.
— А я слышал, после открытия Флёровым и Петржаком спонтанного деления урана в вашей науке многое изменилось, — сказал я. — Все оказалось и ближе, и страшнее. И вроде сверхбомба какая-то уже чуть ли не на подходе. Это слухи?
Он буквально онемел, отшатнувшись. Его припечатало к спинке стула так, будто домашний хомячок вместо того, чтобы в очередной раз уютно хрюкнуть, неожиданно произнес: «Гражданин, пройдемте». Я тогда даже не подозревал, на какую больную мозоль наступил ему, упомянув деятельность ленинградского физтеха. Но сразу понял: стоит от благостного словоблудия перейти к тому, что касается его лично, олимпийское добродушие с него сдувает, как пух с одуванчика.
Придя в себя, он ядовито засмеялся.
— Гоша Флёров! — сказал он с издевкой. — Как же, как же! Да он квартального отчета толком написать не может! Сумбур в голове! Пятилетнего плана собственной работы не в состоянии сформулировать, органически не в силах указать, какое открытие будет делать через три года, какое — через четыре. А ведь социализм — это не буржуазная стихия, это плановое хозяйство! Вы знаете, уважаемый, я по долгу службы присматриваюсь иногда к тому, что творит со своими птенцами Абрам Федорович Иоффе, и надивиться не могу. Им там буквально, извиняюсь, закон не писан. Вы знаете, какой у Флёрова показатель цитируемости? Не знаете? И никто не знает. Потому что никакой. Знаете, сколько у него работ за истекший год зарегистрировано в системах индексации? Одна! В скобках прописью — одна! Да и та весьма сомнительного свойства, и к тому же в соавторстве. Действительно — с Костей Петржаком. Между прочим, поляком по национальности, что само по себе настораживает. Вы знаете, какой у него пэ рэ эн дэ?