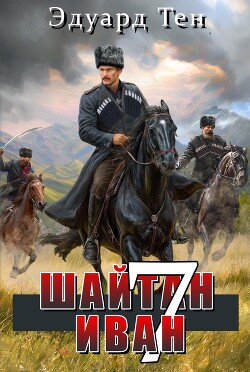В тени двуглавого орла (СИ) - Тен Эдуард
Артур с явным испугом посмотрел на сестру.
— Куда, кама́ндэр? — спросил Аслан.
— Поехали к Ашоту.
Когда бы я ни приезжал к Ашоту, неизменно возникало ощущение, что он только и ждал моего появления.
— Здравствуй, дарагой! Очень рад тебя видеть! — его голос звучал тепло и хлебосольно. — Проходи, дарагой гость, всегда радость! Сначала поужинаем, потом гаварить будем.
Мы уселись за щедро накрытый стол. Я почувствовал волчий голод при виде изобилия блюд и дразнящего, согревающего душу запаха. И вспомнил про Пашу и Аслана, мотавшихся со мной весь день без отдыха.
— Не переживай, твоих людей накормят. Ешь спокойно, друг. Я обо всём позаботился, — Ашот посмотрел на меня понимающе, словно прочитав мои мысли.
— Тьфу ты, ещё один экстрасенс, — подумал я про себя.
— Как дела, Ашот? — спросил я, уже после ужина, осторожно прихлёбывая обжигающий кофе.
— Всё слава богу, — отозвался он. — Идут потихоньку. Но ты ведь не за этим приехал? — в его глазах мелькнула привычная лукавинка.
— Ты знаешь Худовердяна из Тифлиса? — спросил я, отбросив всякие предисловия.
Ашот замер на миг, затем с преувеличенной аккуратностью, почти церемонно, поставил чашку. Фарфоровое блюдце звякнуло, нарушая тишину. Лицо его стало каменной маской, но я успел поймать предательский вздрагивающий нерв в уголке глаза — тонкую паутинку трепета на смуглой коже.
— С чего ты вдруг спросил о нем? — откликнулся Ашот вопросом на вопрос, по старой, как мир, уловке.
— Ты слышал о покушении? О том, что меня ранили.
Ашот лишь медленно кивнул. Его молчание было красноречивее любых слов; он отступал в глухую оборону, выжидая.
— Мне достоверно известно, что один из стрелков нашел крышу у некоего торговца Худовердяна. Тот помог ему исчезнуть.
— Ты… уверен в этом, Пётр Алексеевич? — Ашот тяжело вдохнул, будто в комнате не хватало воздуха.
— Уверен без тени сомнения?
— Да, я его знаю. Давно. — Ашот отхлебнул из чашки, хотя кофе, должно быть, уже остыл. — У нас был… серьезный спор. Но мы нашли решение. У него своя доля, у меня — своя. Мы не пересекаемся. Что ты хочешь от меня?
— Ашот, с твоей помощью или без, Худовердян всё мне расскажет. Всё, что знает, и даже то, о чём боится подумать. Я не хочу прослыть среди вашего брата кровожадным мясником, но ты меня знаешь. Такое я не спускаю.
Ашот уставился в потёмки за окном, его пальцы бесцельно водили по краю стола. Я не мешал ему взвешивать мои слова на невидимых весах.
— Чем я могу помочь? — наконец, выдохнул он, и в этих словах прозвучала капитуляция.
— Дай ему понять. Напиши, что молчать и лгать мне — смерти подобно. Выложит всё, никто не пострадает. Ни он, ни его дело.
— Нрав у него скверный, жаден до звона монеты… но в делах честен, — Ашот нахмурился, говоря как о трудном, но ценимом деловом партнере. — Хорошо, я напишу. Но ручаться за его благоразумие не могу. — Он отвёл взгляд и тихо, как доверительную тайну, добавил: — У него, знаешь ли, четверо детей. Маленьких.
— Ашот, — мой голос упал до опасного шёпота, от которого он невольно съёжился. — Я не прощаю тех, кто поднимает на меня руку. Мой враг умрёт. А те, кто ему помогал, лягут рядом. Без скидок на семейное положение.
Ашот резко крикнул слугу, веля подать перо и бумагу. Нацарапав несколько строк, он сложил лист вчетверо и протянул мне. Кончики его пальцев подрагивали.
— Ты не спросишь, что я написал? — голос его сорвался.
— Зачем? Надеюсь, он человек умный и сумеет прочитать между твоих строк.
Глава 21
Дворец Юсуповых, подобно гигантской раковине жемчуга, сиял в ночи, залитый огнями. Поводом для столь пышного приёма стала дочь князя, княгиня Оболенская, и её заметная усталость от домашней рутины. Желая рассеять её хандру, отец решил устроить в её честь бал. То увеселение, что она любила больше всего, и на котором он не намеревался стесняться в средствах.
Предстоящее торжество сулило быть событием, о котором будет говорить весь Петербург. К гостеприимным дверям князя стекался весь цвет столичного общества. Ходили упорные слухи, что ожидается даже высочайший визит — члены императорской фамилии обещались почтить бал своим присутствием, а возможно, что и сам государь соизволит приехать. Лишь императрица, чьё слабое здоровье было притчей во языцех, вежливо отказалась.
Однако истинной сенсацией, всколыхнувшей свет, стал откровенно демонстративный отказ в приглашении тем, кто был замечен в недоброжелательстве по отношению к виновнице торжества. Этот изящный и холодный удар, тонко рассчитанный, пришёлся по самолюбию многих влиятельных особ, превратив праздник не только в демонстрацию богатства, но и в изощрённую месть щедрого хозяина.
Для Констанции этот бал был не просто возвращением в свет — это было её второе рождение. Долгие месяцы затворничества остались позади, уступив место упоительной свободе. Все тревоги развеялись, словно дым, под несомненным покровительством его величества, милостью которого свет был окончательно умиротворён. И теперь, стоя на пороге бального зала, она желала одного — не просто появиться, а явиться, ослепительной и недосягаемой.
Последний взгляд в зеркало стал моментом торжества. Платье, сотканное из изящества и намёков, мягко обрисовывало стан, вновь обретший утраченную грацию. Украшения — их было немного — говорили красноречивее любых слов: диадема, колье и серьги, объединённые холодным сиянием бриллиантов, слагали безупречный гарнитур. Единственное кольцо с солитером довершало эту безмолвную речь. Но главным сокровищем было её собственное отражение: материнство не умалило, а преобразило её красоту, отныне в ней зрела та пленительная глубина, что приковывает взоры. От этого знания по её жилам разливался пьянящий эликсир торжества, согревавший душу.
И сам праздник, манивший огнями и музыкой, чувствовался не просто увеселением, а заслуженной наградой, щедрым даром судьбы, который она готова была принять.
— Княгиня Оболенская! — громогласно объявил мажордом. Князь Юсупов подхватил руку дочери входящей в зал.
— Ты само совершенство, девочка моя.— Тихо прошептал он гордясь своей дочкой.
Зал взорвался аплодисментами. Все приветствовали возвращение княгини в светскую жизнь. Да ещё какое. Оно было триумфальным.
Бальный зал князя Юсупова был собранным светом в миниатюре. Здесь блистали не только сливки петербургского общества, но и весь дипломатический корпус. Звучала изысканная французская речь послов Англии и Франции, слышались немецкие фразы австрийского представителя и даже величавое молчание посланца Османской империи. Князь лично удостоверился, что ни граф Васильев с Екатериной, ни князь Долгорукий со всем семейством не посмели отказаться от обязательного визита. А по настойчивой просьбе Катерины в этот круг были вписаны и Елизавета Алексеевна с Лейлой.
Церемония открытия бала была ненадолго отложена, и вот, под замирающий шёпот, мажордом торжественно провозгласил прибытие их высочеств, великих князей Павла и Михаила. Братья, облечённые в парадные мундиры своих полков, вошли не просто как гости, а как воплощение самой имперской власти.
Но истинный пир начался, когда гости переместились в столовую. Длиннейший стол ломился от изысков и редкостей; это было пиршество, чьё богатство и художественная гармония потребовали бы для описания целой главы, исписанной убористым почерком въедливого хрониста.
Великий князь Павел, найдя удобный миг, приблизился к Констанции, и его обычно суровое лицо смягчилось. — Констанция Борисовна, вы совершили чудо, — тихо, но внятно произнёс он. — Вы не просто удивили, вы ошеломили свет. Позвольте же мне, в знак моего восхищения, настаивать на первом танце.
Когда их высочества воссели на предназначенных для них почётных местах, наступила пора для церемониальных слов. Великий князь Павел, обратившись к князю Юсупову, произнёс с безупречным достоинством: — Его величество, мой отец, просил меня передать свои глубочайшие сожаления. Неотложные государственные дела, увы, лишили его возможности насладиться столь блестящим собранием.