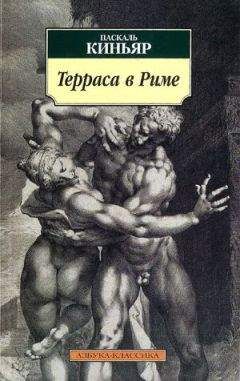Паскаль Киньяр - Секс и страх
Гомер воплотил на сцене первого меланхолика в образе Беллерофонта. «Объект ненависти богов, он блуждал в одиночестве по равнине Алейона, избегая общества людей, и сердце его снедала тоска» («Илиада», VI, 200). «Сердце его снедала thymon katedon» — именно так выразился Гомер. Этот его эпитет великолепно передает суть меланхолии — пожирание (омофагию) тела душой. Несчастен Нарцисс, пожираемый собственным отражением.
Паррасий написал Геракла. Паррасий написал Филоктета. Легенда гласит: когда Геракл захотел умереть, Филоктет согласился возжечь огонь его погребального костра. В благодарность Геракл отдал ему свой лук со стрелами. Впоследствии Филоктет влюбился в Елену и отправился под стены Трои. Его ужалила в ногу змея, и от раны его исходило такое зловоние, что даже греческие вожди не могли перенести его. Тогда Улисс убедил их отправить Филоктета на пустынный остров.
Так Филоктет оказался первым Робинзоном Крузо. Или же первым «сосланным на остров», задолго до появления законов императора Августа. Он — первый отшельник. Он — первый Тиберий.
Древние утверждали, что Паррасий, написав Филоктета, создал подлинный шедевр. На картине Паррасия жестокие страдания Филоктета были изображены с таким мастерством, что сразу становилось понятно: герой «навсегда утратил сон». Художник нарисовал «единственную слезу» в его сухих глазах. Филоктет из последних сил карабкается по скалам за добычей, которую убил в приливе ярости, на пути к источнику, чья вода должна облегчить его муки. Он оглашает окрестности жалобными стонами, сетуя больше на людей, предавших его, чем на пожирающую его язву. Его горькие слезы смешиваются с черной кровью, сочащейся из зловонной раны. «Волосы его всклокочены и спутаны. На иссохшем веке застыла единственная слеза» («Антология Плануда», IV, 113).
Сенека писал: «Нет в мире более мрачного (morosius) животного, нежели человек».[3] Сенека Младший, первый министр императора Нерона, питал ненависть ко всему живому. Он ненавидел наслаждение. Ненавидел пищу. Ненавидел напитки. Он обожал деньги и страх страдания. Он во всем был полной противоположностью своему отцу. Он умер миллионером. Сенека — это исступленная, тоскливая худоба, это жажда красноречия и власти. Он первым окрестил себя «педагогом рода человеческого».[4] Это истинный пуританин. «Смерть вырывает тебя из родимого чрева, отвратительного и зловонного».[5] Эта фраза написана не святым Павлом. Она написана Сенекой Младшим, в то же самое время — когда он поучал все римское общество.
Сенека Младший пишет Луцилию (LIX, 15): «Один ищет радость (gaudium) в пиршествах и разврате (luxuria). Другой — в тщеславии и поклонении бесчисленных клиентов. Третий — у любовницы. А этот — в показных занятиях и науках либо же в литературных трудах, которые ни от чего не исцеляют. Все это обманчивые и преходящие услады (oblectamenta fallacia et brevia), коих все мы становимся жертвами. Таково же и опьянение, когда за короткий час веселых безумств (unius horae hilarem insaniam) приводится платить тяжким отвращением (taedio). Таковы же и рукоплескания толпы, которые покупаются ценою больших беспокойств и ими же кончаются».
Эта страница Сенеки включает в себя все. Пища, эротическое наслаждение, честолюбие, власть, наука, искусство не стоят ровно ничего. Кажется, будто это написано в нашем XX веке.
Целий говорил, что taedium vitae — это изнеможение, упадок сил (maestitudo). Сенека же утверждает, что taedium, болезнь людей, происходит от сознания человека, что его тело заключено в двух мерзких пределах — между коитусом, произведшим его на свет, и могилой, где он сгниет. С меланхолией (tristitia вполне передает смысл слова melagcholia) тесно связаны все виды отвращения и ненависти. Phobos — свидетельство cholia (испуг обличает отвращение к жизни). Латинская tristitia объединяет в одном понятии недомогание (disthumie), nausea (тягу к ночному мраку), ненависть к окружающим (anachorisis), ужас перед самыми незначительными явлениями и, наконец, отвращение к коитусу. Вторым симптомом является «холодок, ползущий по спине». Лукреций разделяет эти симптомы на пять категорий: озабоченность, печаль, страх, забвение и угрызения совести. Он характеризует их как предвосхищение смерти, летаргии, неизлечимой болезни. Он ни разу не поминает «затруднение мысли» (difficultas), на котором настаивает один Целий. Вот как Лукреций представляет себе меланхолию: «Perturbata animi mens in maerore me tuque triste supercilium, furiosus voltus et acer» (Потерянный разум, объятый болью и страхом, нахмуренные брови, мрачный и разъяренный взгляд) («О природе вещей», VI, 1183). И наконец, Сенека Младший решительно связывает воедино отвращение, меланхолию и гения («De tranquillitate animi», XVII, 10): «Это когда разум презрел суждение всех окружающих (vulgaria) и мнит, что песнь его может быть слишком возвышенна для смертных уст» (grandius ore mortali).
Вся римская живопись состоит из тривиальных этических или торжественных моментов. Плиний описал картину Антифила, восторгаясь изображенным на ней мальчиком, дующим на огонь, который озаряет его лицо. Это иллюзионизм одного мгновения. Это «моментальный» снимок.
Огонек жизни трепещет на фоне смерти.
Филострат написал череп. Это, в отличие от Тщеты живого мира, этакий погребальный Сагре diem: нужно срывать цветок того, что через миг погибнет разом и в individuum, о котором пишет Гораций, и в атомах света, о которых пишет Лукреций. С того времени фрески стали «свидетельствами преходящего мира» (praedatio): фрукты в момент их сбора, рыбы в миг, когда их вытаскивают из воды, дичь, только что пойманная охотником.
Ветка со спелыми, покрытыми пушком персиками положен» рядом с вазой, наполненной водой. Ваза поблескивает.
Петух хочет вытащить из корзинки спелый финик. Курица-султанка подбирается к опрокинутому кувшину.
Птица клюет яблоко. В красноватом свете, льющемся из окна, на котором лежит красное блестящее яблоко, толстый кролик подбирает с пола виноградные зернышки.
Фиги, персики, сливы, вишни, орехи, виноград и финики, каракатицы, лангусты и устрицы, зайцы, куропатки и дрозды остались теми же, что и прежде. И посуда, в которую их клали, сохранила почти тот же вид. Есть нечто монотонное, неизменное в голодном взгляде человека (как неизменен и сам голод), мечтающего о сезоне фруктов, которые он мысленно собирает, пока на дворе зима. Фрески доисторических времен на стенах пещер рисовались с целью обеспечить «возврат» дичи, которую охота вырвала из жизни. Один из стихов Афрания[6] гласит: «Pomum, holus, ficum, uva» (Яблоки, овощи, фиги, виноград).
Сенека отвечает ему в 77-м «Письме к Луцилию»: «Cibus, somnus, libido, per hunc circulum curritur» (Трапеза, сон, желание — вот круг, в котором вращается человек). Мужество или несчастье — не единственные вещи на свете, внушающие волю к смерти: «отвращение или монотонное (fastidiosus) существование также способны подвигнуть на это». Обязательные жертвоприношения в виде пищи или возлияний, предлагаемые душами, менее мертвыми, чем мертвые, усопшим (богам), стали мало-помалу изображениями, предлагаемыми изображениям. Как ни странно, мы ни на шаг не ушли от безжалостного видения Паррасия, пишущего раба из Олинфа. Ни от видения Аристида с его изображением смерти, питающей грудью младенца. Все, что нам показано на этих картинах природы — не мертвой, но умирающей, — это все то же патетическое, пассивное страдание вещей перед их уничтожением.
Сливы, готовые упасть с ветки, подобны рыбе, бьющейся в предсмертных судорогах на столе перед гостями, за миг до того, как повар схватит ее и унесет варить. Рыба подобна рабу-олинфийцу, а тот, в свою очередь, подобен финику, который готов склевать петух, виноградному зернышку, которое сейчас проглотит кролик, Все эти «культурные» ex-voto вызывают в памяти понятие obsequium (беспредельная покорность раба господину). На этих изображениях ясно видны лица (то есть уже vultus, а не prosopa) с выражением ужаса перед своей судьбой пищи, назначенной к съедению. Это немой ужас, но здесь дело не только в молчании: даже в вишне, которую готов склевать дрозд, таится сексуальная покорность. В этом ужасе больше покорности, чем молчания.
Афины в III веке до Рождества Христова, Рим в I веке после него, Голландия в XVII веке пережили один и тот же кризис города, одно и то же отторжение города людьми и возврат их к деревенскому укладу жизни, одно и то же восхищение природой и расцвет станковой иллюзорной живописи, где постоянно присутствуют знакомые домашние животные, где лето кажется нескончаемым, где плоды земли обильны и кажутся вечными, где общественное мерк, нет перед частным, где мегалография уступает место ропографии (изображению мелких предметов), а затем рипарографии (изображению отбросов и прочих «гадостей», чем особенно прославился Сос Пергамский[7]). Гегель называл голландскую живопись «воскресеньем мира». В таком случае римская живопись была xenion мира — подарком гостя за гостеприимство, врученным хозяину — Природе, Венере. Художник Галатон изобразил на одной из своих картин Гомера, извергающего рвоту[8] (emounta), тогда как другие поэты черпали свое вдохновение в том, что извергли его уста (ta ememesmena).