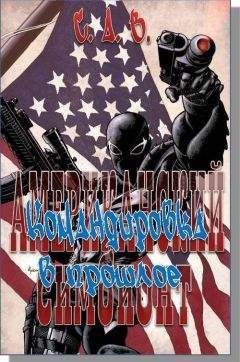Виктор Храмов - Сегодня - позавчера 4
Размышлизмы мои были прерваны знакомым запахом. Дурь! Меня аж скрутило всего! Ё-моё! Вот это да! Ломка! В теле Кузьмина я же никогда не принимал! Только Голум в моих снах Голумских баловался. Да что баловался - нарик он был конченный! Он! Не я. НЕ Я! Во снах! Не в реале! Но, меня прямо физически ломало.
Нашёл источник запаха - двое сидели, балдели. Все классические признаки укуренности - в наличии.
- Классная дурь, - просипел я.
- У-у, как тебя скрутило!
- Где взял? - гнул я своё. Я их видел и до боя за полустанок. Не принимали они тогда. Тут где-то добыли.
- Там нет уже, - смеются аж покатом.
Весело вам? Хохотун напал? А мне вот - не очень весело.
- Ты - не ломайся, говори. Я - сам посмотрю. Есть там или - нет. У меня есть веские аргументы для поиска.
Они закатились ещё хлеще.
- Аргументы!.. - задыхался один.
- Венские... - другой.
Я схватил одного из них за грудки, поднял над головой, встряхнул, понёс его лицо к своему, глянул прямо в глаза, мысленно "передал" ему всю ту свою боль, что я испытал. Истеричное состояние его сменилось паникой. "Ха-ха" сменилось "шугняком".
- Кто?! - выдохнул я ему.
- Повар! - завизжал он.
Я разжал пальцы, боец упал безвольным мешком, а я - повернулся и пошёл прямо на кухню, уютно пыхтящую душистым дымом. Надо ли говорить, в какой ярости я был?
Поворёнок что-то учуял. Слинять пытался. Расталкивая народ, толпившийся у кухни, я успел поймать его за воротник. Он завизжал, рванулся, с треском отрывая воротник. Но, я уже перекрыл ему путь к бегству.
Меня пытались остановить, хватали, я резко и жёстко высвобождался.
Поворёнок запрыгнул на подножку кухни, завизжал, демонстрируя мне эффектные па из танцев восточных единоборств. Ну-ну! Я - пёр ледоколом, бойцы разлетались. Поворёнок завизжал, ударил ногой, метя мне в ухо. Ну-ну, опять же! Блок левой рукой, кулаком бью во внутреннюю часть бедра, чтоб "отсохла". Он бьёт рукой - подныриваю - он, на подножке - выше, пробиваю его в печень. Снизу кулаком в лицо согнувшегося поварёнка - выпрямляется. Носа - нет, глаза уже потерянные. Ещё раз в открытую печень - опять сгибается, падая. Вскинул руку, дождался, пока пролетит нужное расстояние, опустил локоть с ускорением на пролетающий затылок.
Тело рухнуло с разгоном во взбитую ногами грязь. Презрительно пнул его, плюнул в макушку.
- Ты убил его, - выдохнул кто-то из столпившихся штрафников.
- Такое дерьмо, как этот - живучие. Ничего с ним не станется.
Развернулся, чтобы идти на место, где лежали мои пожитки - наткнулся на взгляды. Ротный, его бульдоги, политрук. Стоят, смотрят на меня. В оазисе стоят - штрафники расступились. В руке ротного - ППС. Ствол смотрит на мои сапоги, убитые дорогами войны.
- Руки!
Я поднял. Связали. Для улучшения работы желез внутренней секреции провели сеанс массажа внутренних органов. Ногами. В лицо не били. Навыки несуществующего ещё ОМОНа. Связали, повели.
Привели в блиндаж ротного. Пробитое перекрытие блиндажа снова накрыли, вычистили хлам, поставили буржуйку, что ещё не успела прокалиться, дымила. Да ещё и политрук оказался паровозом - курил одну за одной прямо тут, прикуривая от заплющенной гильзы, бычкуя в банку из-под американской тушёнки.
- Что это ты устроил? - проскрипел ротный.
Я молчал. Как ему ответить? Может, так?
- Самосуд, - вздохнул я.
- Вот даже как? И за что ты "осудил" осужденного? - удивился политрук, прищурившись от едкого дыма "козьей ноги", что норовила попасть в глаз.
- Изготовление и сбыт наркотических средств.
Ротный и политрук переглянулись.
- А то вы не знали? - спросил я.
- И что? Штрафники на смерть ходят каждый день. Им надо. Чтоб с рельсов не соскакивали.
- А чё ты перед ним оправдываешься? - удивился политрук, - пусть твои махновцы его обработают, а я - в трибунал оформлю.
- Так ты, Вася, ни хрена в людях и не разобрался, - покачал головой ротный. Политрук Вася - обиделся, губы надул, зло трамбовал половину скрутки в банку.
- Таких - что бей, что в жопу целуй - им - прохладно. Так, боец?
Я пожал плечами. Это ты - психолог, я так - проездом тут.
- Ты же в плену был.
- Был, - киваю.
- Сбежал?
- Сбежал, - снова киваю, как тот Герасим, что на всё согласен.
- Били?
- Били, - соглашаюсь.
- За что?
- За дерзость, - усмехаюсь.
- А именно...?
- Там же наши, русские им служат. Немцы - белоручки, не мараются. Вот я у них и спрашивал - что ОНИ будут делать, когда НАШИ вернуться?
Ротный улыбнулся. Лучше бы он этого не делал. Не улыбка, а оскал боли от ноющего зуба.
- Один раз? - спросил он.
- У каждого, - ответил я.
- Ишак, - пожал плечами ротный, - Понял, политрук? Его каждый раз били, а он - всё одно - наглеет.
- А ты как увидел? - спросил у ротного политрук.
- А когда мои орлы его мутузили, он дёрнулся. Как сдачи дать хотел. Не боится совсем. А ты не видел, как он к фрицам в окоп прыгал?
- Нет.
- А я - видел. Оформляй в трибунал. Этого - бить - только потеть. Слушай, Дед, а что ты так на травку эту взъелся?
Опять я завис. Как ему объяснить причину ярости, охватившей меня? В тот момент, просто, я вдруг понял, что я - наркоман. Оказывается, зависимость от наркоты - не физическая. В этом теле, в этом мозгу - никогда не было ни капли препаратов. Зависимость - психическая. Я - наркоман. Я - ублюдок. Ничтожество. Приятно резко и вдруг осознать себя куском говна? Каким будет моё отношение к морде, что ткнула меня в моё же дерьмо?
- Я сам - наркоман. Я думал - всё, покончено. А услышал запах - так меня ломать стало! Так я разозлился! Сколько народу оскотинилось, сколько людей погибло из-за этой дряни! С резьбы слетел.
- От водки - не меньше гибнет. Что, теперь спиртзаводы жечь? Или старшину забить насмерть, чтоб боевые 100 грамм не выдавал? Сам же получаешь! - разозлился вдруг ротный.
- Водка - другое, - мотаю головой. Не как Герасим.
- Одно и то же! - в злости скрипит ротный.
- Другое! - отвечаю, повышаю тон.
- Ишак! Упёртый, упрямый баран! Забирайте его! Оформляй, Вася!
***Трибунал состоялся через несколько часов. Председатель - какой-то пожилой мужик с седым ежиком на голове, с мешками под глазами от усталости. Знаков различия - не видно, он закутан весь - простыл.
Разобрали меня быстро - дело кристально понятное - один штрафник забил насмерть другого. Я, оказывается, сломал шею поварёнку. Локтём? Или он сломал шею от удара о землю? А какая разница? Присудили - расстрел. Возмутился ротный - одного я убил, второго - расстреляют. А воевать - кто будет? Пушкин? И этим спас меня от очередного расстрела.
Заменили годом штрафной роты. Вот и всё. Освободили в "зале суда". Без конвоя попёрся искать Шестакова. Он - пьян. Допил шкалик, что был в моём вещмешке. Больше - ничего не пропало. Галеты, банки консервов - не тронуты.
- А я тебя уже поминаю, - сонно сказал он.
- Рано хоронишь. Спи. Позже - умрём. Двигайся. Замёрз я.
Лёг, прижался в тёплому боку Шестакова. Как хорошо, что призрак бородатого пидорга не бродит тут. Есть тут, конечно, такие. Всяких больных хватает. Но, относятся к ним тут естественно - с презрением. Как в зоне, они - неприкосновенные. Западло. И живут они - забившись под плинтус. Потому и обнимаются бойцы перед смертью без всякой заднеприводной мысли. Потому - спят, тесно прижавшись, как супруги. Потому что - холодно. А скучковавшись - теплее.
На безымянной высоте.
В этот раз - всё как положено. Накормили до отвала пустой кашей, выдали фронтовые 100 грамм. Ух, ты! Шестаков пить не стал. охлебнул, чтоб руки не тряслись, остальное - во флягу. Я своё - туда же. Пусть у него будет. Мне всё одно - без надобности.
Патронов, гранат - сколько унесёшь.
Политрук толкнул пламенную про искупление, смытие кровью пятна позора, и т.д.
Ротный - как обычно - вперёд, назад пути - нет! Мы - острие грандиозного наступления, которое покончит с немцами. А к зиме - возьмём Берлин. А чтобы совсем нам весело стало - мы будем наступать с танками. Целый танковый полк. Нам одним.
Выдвигаемся, в рассветном тумане, на исходные - к подножию пологой высотки. Ночью валил снег хлопьями, сейчас стало хорошо подмораживать - влага воздуха стала оседать туманом. Туман тяготеет к низинам, нас не видно, а вот ряды черных укреплений противника на свежевыпавшем снегу - отлично видно. Как и суету у них. Не дураки, услышали рёв танковых моторов. Понимают, что убивать их сегодня будут.
Лежу на расстеленной плащ-палатке, мёрзну, мечтаю о кружке горячего, сладкого кофе и ласковых руках жены.
Не к добру. Нельзя раскисать. На смерть идти предстоит.