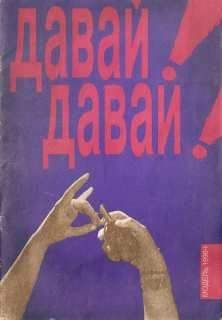Комсомолец (СИ) - Федин Андрей Анатольевич
Она варежкой стряхнула с рукава моей куртки льдинки.
— То устаревшая информация, Людмила Сергеевна. Я уж почти год безработный.
— Подвинули?
Женщина нахмурила брови.
— Уволился. Сам.
— Почему?
У моей бывшей руководительницы дипломным проектом побелел заострённый кончик носа — так всегда случалось, когда она сердилась.
— После второго инфаркта. Написал заявление сразу, как вышел из больницы. Решил, что хватит с меня работы. Захотел пожить подольше, пообщаться с детьми, понянчить внуков. В директорском кресле вряд ли бы дотянул до сегодняшнего дня — с моим-то сердцем. Вот такие пироги с капустой, Людмила Сергеевна.
Я прижал руку к груди, где с самого утра не угасала боль — после разговора с сыном.
— Ну… и правильно сделал. Здоровье важнее.
— Я тоже так решил.
Вдохнул полной грудью, скривил губы.
— Ну и как, пообщался с детишками? — спросила Гомонова.
— Пообщался.
— Помнится, у тебя были мальчишки? Двое? Взрослые, поди уже. Где они сейчас?
— Старший в Москве, — сказал я. — На прошлой неделе у него был.
— Учится?
— Закончил МГУ. Программист.
— Не пошёл по отцовским стопам. Молодец.
— А младший здесь, в Зареченске. В горном. Третий курс. Подземные горные работы. Подумывает перевестись на взрывное дело. Говорит: там больше перспектив. Хотя я и без всяких перспектив мог бы его хорошо пристроить. Хоть здесь, хоть в Череповце. Не поверите, живёт в том же общежитии, где когда-то обитал я. Вот, только сегодня утром с ним разговаривал. Предлагал ему переехать ко мне: я снял здесь квартиру неподалёку от горного института…
— Теперь он — университет.
— Да, слышал.
— И что сын? — спросила Гомонова. — Не согласился жить вместе с папой?
Я покачал головой.
— Не захотел. И денег не взял. Гордый…
Людмила Сергеевна взяла меня под руку.
Мы зашагали по аллее. Под ногами у нас хрустели сугробы. Зима в Зареченске выдалась снежной — такие здесь случались редко. Хотя, по словам Гомоновой, в семидесятом, когда в этом самом парке, рядом с памятником Пушкину убили её старшую сестру, снега в городе навалило на порядок больше. Помню, Людмила Сергеевна рассказывала: сугробы в том году были едва ли не до пояса. Я насмотрелся на подобные и в Череповце, где почти десять лет проходил в замах, и в Костомукше, куда отправился «генералить».
Я вёл своего бывшего институтского куратора по знакомым со времён учёбы местам. Почти не смотрел по сторонам (все эти повороты аллеи хорошо помнил: много раз гулял по ним с девчонками). Перчаткой утирал со лба снежинки и капли пота. То и дело судорожно вдыхал морозный воздух, оттягивал тугой ворот: сегодня он казался мне удавкой. Ну и, конечно же, морщился от сердечной боли — привычно, почти не замечая её: давно смирился с её появлениями. С самого утра во рту стоял привкус лекарств.
Говорил в основном я. Рассказывал о своих детях. О том, что старший нашёл в Москве неплохую работу по специальности, снимает квартиру на пару с симпатичной девицей. Твердит, что хорошо зарабатывает. Не берёт у меня денег — всё, что я ему посылал, переправлял и переправляет младшему брату, не сообщая, откуда те немалые суммы берутся. Потому что младшенький от моих «подачек» отказался. Всё возвращал — до копейки. Так и не простил мне развода с их матерью. Ведь та напела детям, что это я их бросил.
Чувствовал, как по спине под одеждой скользят вдоль позвоночника капли пота. Мысленно ругал себя за то, что слишком тепло оделся. Радовался, что именно сегодня Двадцать пятое января, и мне есть кому выговориться: не сомневался, что встречу Людмилу Сергеевну в Пушкинском парке… если та ещё жива. Непростой утренний разговор с сыном оставил мрачное, тягостное впечатление; давил на сердце — причём мне всё больше казалось, что давил не только в переносном смысле.
Я замолчал, остановился, перевёл дыхание.
Ветер швырнул мне в лицо десяток похожих на ледышки колючих снежинок, заставил зажмуриться. Рука по привычке легла на грудь — поверх источника боли.
— Димочка, тебе плохо? — спросила Людмила Сергеевна.
Его голос звучал приглушённо, будто вдалеке.
— Опять сердце пошаливает, — сказал я.
— Тебе нужно присесть.
— Сейчас всё пройдёт. Не переживайте.
Заставил себя улыбнуться.
И боль действительно притихла. Утренние таблетки подействовали — как раз вовремя: я потянулся за новой дозой лекарств. Зато закружилась голова. Будто я резко встал. Я пошатнулся, но устоял. Видел, как шевелились губы на лице у Гомоновой. Но не расслышал ни слова. Будто оглох. Заметил тревогу в глазах своего бывшего институтского куратора — когда меня резко повело в сторону, и я сообразил, что всё же падаю. Перед глазами мелькнул памятник Пушкину. «Неужто мы успели навернуть круг по парку?» — подумал я за мгновение до того, как провалился в темноту.
Я склонил голову над раковиной, смотрел на падавшие из крана капли. Невольно вёл им подсчёт. И шарил в памяти. Но не находил ни одного воспоминания, что следовало бы по временной шкале за моим падением в парке. Январь. Двадцать пятое число. Зареченск. Завтрак, встреча с сыном, прогулка с Людмилой Сергеевной по Пушкинскому парку. Всё это было словно вчера. А потом — пробуждение в комнате общежития. Зелёная (точно не январская) листва на тополях за окном. И лицо незнакомого паренька в зеркале.
Посмотрел на тюбик зубной пасты, что сжимал в руке. «Поморин» — раньше такой не видел; или видел, но позабыл об этом. Отвинтил колпачок, попробовал пасту на вкус. Мятная. Невкусная. Сплюнул остатки пасты в раковину. Смыл их водой. Бывали ли у меня раньше сны, когда я чувствовал привкус мяты, улавливал удушающий запашок хлорки, ощущал головную боль? Помню, как во сне понимал, что сплю, пытался те сны продлить или прогнать. Но такие, похожие на реальность вплоть до мелочей, не припоминал.
А если рассмотреть версию со смертью? Предположить, что я всё же умер там, в январском парке — моё тело отправили в морг, а не в реанимацию. Что тогда? Не помню светлого тоннеля и доброго старца. Где я сейчас? В раю, в аду или в чистилище? Уж точно не ушёл на перерождение: у моего отражения не облик младенца и даже не мой собственный (это если предположить, что я случайно заглянул в собственное будущее, а не прожил в нём десятки лет). Переселение душ? «Янки при дворе короля Артура»?
Я повернулся к окну. Коснулся взглядом стен домов, что виднелись сквозь листву. Знакомые — сомневаюсь, что спутал бы эту часть зареченского проспекта Ленина с любым другим местом: уж очень часто я замечал её, глядя в окно. Вот и сейчас мне казалось: видел эти дома буквально вчера. Но не пошарпанными временем и непогодой, как сейчас. А совсем иными — свежеокрашенными, с пластиковыми стеклопакетами, застеклёнными балконами. Помнил я их и в нынешнем состоянии — похожими они были в первой половине девяностых годов.
Вот только сейчас явно не девяностые — нисколько не сомневался в этом. Иначе где знакомый линолеум в коридоре? Где следы постперестроечной демократии в виде похабных надписей на стенах и окурков на полу? Во времена моего студенчества в общежитии даже под утро не бывало тишины: кто-то возвращался с гулянки, кто-то собирался на работу под громкие вопли телевизора. И вряд ли я попал в будущее: уж очень архаичным выглядело всё вокруг — ну прямо совдеповская обстановка из моего детства.
— А ведь и правда, — пробормотал я.
По-новому взглянул на интерьер комнаты, на сушившуюся здесь одежду, на молодые тополя за окном, на редко проезжавшие по проспекту Ленина машины (не заметил ни одной иномарки — словно угодил на фестиваль любителей отечественных ретро автомобилей). Заценил и свой прикид: тапочки со стоптанными задниками, убогие штаны, подтяжки, некогда белая майка. Припомнил железную кровать с пружинами, отсутствие простейшей бытовой техники в комнате, древний чемодан с металлическими углами.