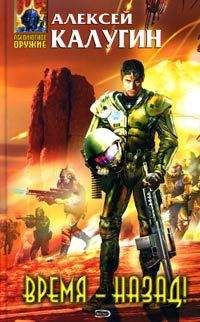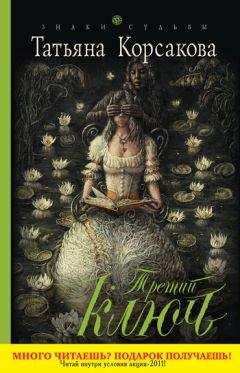Том Пардом - Искупление Августа
И снова мне удалось совладать со своей пресловутой опрометчивостью: прежде чем покинуть номер, я убедился, что коридор свободен. Невозмутимо и осторожно я прошел через кафе при отеле и тем же шагом, с той же невозмутимостью проследовал из отеля в магазин, расположенный в ста метрах. Я купил крепкий топорик с длинной рукояткой и проследил, чтобы его хорошенько упаковали, а затем вернулся в номер Гринуэя и запер за собой дверь.
На этот раз под дулом револьвера оказался я. Выяснилось, что имелся еще один нож — складной, не упомянутый в сообщении мадам Леско. Мой пленник разрезал свои путы и поймал попутный грузовик.
Я был уверен, что он меня не застрелит. Он явно предпочитал избегать действий, которые могли бы привлечь к нему серьезное внимание. По его требованию я положил топорик и вновь был вынужден выслушивать его бредни.
Вначале я предполагал, что он был немецким агентом, переправленным в прошлое немецкими заговорщиками, которые пытались исправить ошибки своих генералов. Теперь мне пришло в голову, что он действительно мог быть эгоманьяком, верящим, будто ему дозволено единолично определять судьбу всего человечества. По его словам, все XX столетие представляло собой серию непоправимых катастроф — и каждый кошмар в его перечне происходил исключительно из-за того, что немецкие варвары потерпели поражение в своей попытке завоевать Францию. В том будущем, из которого он явился, план Шлиффена действительно провалился, потому что фон Клюк отступил от данных ему инструкций. Война, утверждал Гринуэй, превратилась в «пат», и миллионы людей погибали в прямых атаках на укрепленные позиции, которые тянулись поперек всей карты Европы. А после этой была вторая война, даже еще более страшная, чем первая. Были кровавые бойни и революции, и — как прямое следствие провала плана Шлиффена и новой немецкой попытки завоевать Европу — создание супербомб, способных уничтожать целые города. И он здесь — я должен, должен ему поверить! — лишь для того, чтобы предотвратить гибель всего человечества. Ну а для этого подонки кайзера Вильгельма должны стать властителями Европы.
Даже если он и был немецким агентом, то явно не профессиональным. Говорил он так, как ученые, с которыми мне довелось встречаться. Был он щуплым, костлявым, с выпирающим животом. И держал свой револьвер, будто безобидную курительную трубку.
— Чем вы занимались в вашем времени? — спросил я.
Он словно бы растерялся — как будто не мог понять, почему я задаю личный вопрос, а потом ответил, что был физиком. Где-то под Лондоном, утверждал он. Он работал с ускорителями — понятие мне известное — и экспериментировал с некими элементарными частицами, о которых я никогда не слышал, но которые он называл «кварками». И он разработал принцип путешествия во времени самостоятельно, в одиночку, и в глубокой тайне, ибо почитал своим священным долгом спасти мир от ужасов, которые его постигнут, если план Шлиффена провалится. Он всегда интересовался историей (странное увлечение для физика) и задумал свое безумное предприятие лишь потому, что всегда видел в решении фон Клюка подправить план Шлиффена поворотный пункт европейской истории XX века.
Некоторые его фразы, касавшиеся научных вопросов, походили на те, что я слышал в разговорах в кафетерии обсерватории. Но что это меняло? Разве не могла группа немецких заговорщиков использовать в качестве агента настоящего физика? В конце-то концов они не могли предвидеть, что ему придется иметь дело с кем-то вроде меня.
Вероятно, что-то в выражении моего лица насторожило его. Он попятился и, схватив револьвер двумя руками, прицелился мне в ногу.
— Не надейтесь, что у меня не хватит духу выстрелить. Я поймал вас у себя в номере над открытым кофром. Все мои документы в полном порядке. Безусловно, я предпочел бы не привлекать к себе внимания. Но это не значит, что я откажусь от мысли обезвредить вас хотя бы на пару-другую недель.
Я поднял руки и, пятясь, вышел из номера. Вечером в коридоре раздался шум, и я услышал, как он отдает распоряжения двум дюжим парням, которые выносили его вещи из отеля.
Первое письмо было доставлено четыре дня спустя. Я был потрясен, сообразив, что принес его мне Леон Динар — молодой человек, которому через несколько недель предстояло лишиться ноги. Он явно звезд с неба не хватал, но происходившее разожгло его любопытство. А потому было нетрудно заставить его разговориться. Гринуэй приехал раньше, чем намеревался, и с той минуты не выходил из своей комнаты. Прежде он объяснял месье Динару, что хочет понаблюдать ежедневную жизнь фермы, а теперь заявил, что работает над своей книгой и его нельзя отвлекать.
Леон был не против сгонять на велосипеде в город, дабы навестить своего «друга». При всей его внушительной мускулатуре он был еще настолько юным, что отгадать пол его «друга» не составило труда. Я вручил ему чаевые, достаточные для приятного общения в местной кондитерской, и сказал, что ответ приготовлю к следующему вечеру, если он согласится съездить в город еще раз.
Само письмо оказалось повторением бредовых измышлений Гринуэя, но изложенных более логично и освеженных дополнительными подробностями. Вновь меня попотчевали СОТНЯМИ ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ ЛЮдей, которых косили пулеметы, когда их поднимали из окопов в атаку, огромными, испепеляющими города бомбами и угрозой, которую несли бомбы.
Утверждения эти излагались с такими подробностями, что я был бы полным тупицей, если бы не понял: в определенной мере они опираются на факты. Честно говоря, имелась одна подробность настолько чудовищная, что было трудно поверить, чтобы кто-то — и уж тем более немецкий агент — мог бы ее измыслить. Во время второй войны, утверждал он, прусские автоматические куклы пошли за тираном, который довел извращенные инстинкты немецкой души до их логического завершения и использовал достижения техники современного ему общества, чтобы убивать газом и сжигать миллионы людей.
Над этой частью его письма я размышлял более часа. Мог ли какой бы то ни было немецкий агент сказать подобное о своем народе?
Но как, как я мог поверить его утверждению, будто генералы союзников столь бессмысленно транжирили людские ресурсы своих стран в массированных лобовых атаках, которые он описывал с таким смакованием? Я мог бы поверить, что так поступали немецкие генералы. Ну, и английские, вероятно, могли бы. Но генералы моей родной страны? С их традицией воинской доблести и блистательной стратегии? Мой собственный отец следил за наступлением японской армии, когда она оккупировала Китай, двигаясь под прикрытием бронированных машин и пикирующих бомбардировщиков во второй половине века. Как мог я поверить, что европейские генералы до этого не додумались? На протяжении войны, которая, предположительно, длилась несколько лет?
Но неважно. Даже если каждое его слово было истиной, какое это имеет значение? Один факт оставался неопровержимым. Даже если все его утверждения были чистой, неприкрашенной правдой — а я этому не верил, — конечно же, все французские солдаты, погибшие в битвах, о которых сообщало его письмо, предпочли бы отстоять мир, где в конце концов восторжествовали бы цивилизация и справедливость. Разве не лучше умереть, сражаясь, чем прожить век в позоре и варварстве, на которые он обрек нацию, признанную душой Европы?
Я посылал ему наихитрейшие ответы, какие только мог придумать — лишь бы он продолжал писать мне. Леон сновал между нами каждый день. Под конец я предупредил Леона, что в доме его отца поселился шпион, подосланный немцами, поскольку немцы считают, что убийство австрийского эрцгерцога скоро приведет к войне. Ну а сам я правительственный агент, получивший задание собрать неопровержимые доказательства деятельности Гринуэя.
Однажды вечером я поехал на ферму с Леоном и спрыгнул с велосипеда задолго до того, как Гринуэй мог бы заметить меня на дороге. Я подошел к дому сзади через луга и присоединился к Леону у задней двери. По словам хозяина, Гринуэй всегда открывал дверь комнаты, когда Леон возвращался из города с письмом. Вдвоем мы легко могли захватить коротышку врасплох и ворваться в его покои.
Дверь комнаты Гринуэя заскрипела, когда я еще только крался вверх по лестнице за широкой спиной Леона. «Англичанин», очевидно, высмотрел, как Леон слез с велосипеда перед домом, и, конечно, недоумевал, почему парень мешкает.
На этот раз из револьвера прицелился я. Гринуэй растерялся, одной рукой придерживая дверь, и, обогнув Леона, я бросился к нему.
Он попытался ударить меня ногой, и мы сцепились на верхней площадке. На мгновение мой взгляд уловил манящий соблазнительный кофр в комнате за открытой дверью.
Жгучая боль пронизала мою ногу. Мои пальцы на его запястьях разжались, он снова пнул меня ногой и вырвался. Дверь захлопнулась, я услышал, как щелкнул засов.