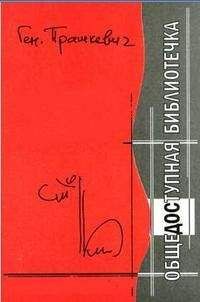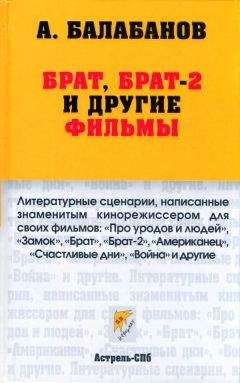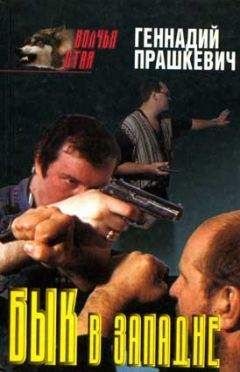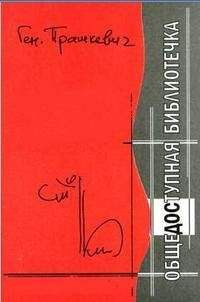Геннадий Прашкевич - Тайный брат (сборник)
Перивлепт. Восхитительная!
Но ведьма, ведьма! Истинно ведьма.
Он, Ганелон, по приказу Амансульты обязан посещать некоего ученого клирика.
Он обязан учиться всему, чему может его научить этот ученый клирик, потому что ему, юному Ганелону, положено помогать монаху Викентию. Но Ганелон, презрев желания госпожи, тайно карабкается за нею по горной тропе, потому что так приказал ему брат Одо. «Стань тенью своей госпожи, Ганелон, душа твоей госпожи в опасности, – так приказал Ганелону тайный брат Одо. – Стань тенью своей госпожи, везде следуй за нею, приглядывайся к поступкам, заглядывай в книги. Стань ушами, слышащими каждое слово нечестивого монаха Викентия из Барре, стань глазами, замечающими все, что происходит в нечистом замке Процинта. Помоги своей юной госпоже, не дай нечестивому дьяволу похитить живую душу. Ведьмы ужасны, Ганелон. Там, где рассеют они порошок из растертых костей мертвеца, замешанный на пене, упавшей с губ белой жабы, там грядет неурожай, там цветущее поле покрывается червями, змеями, сусликами. Не допусти торжества злых сил, Ганелон, спаси свою госпожу. Ведь ты призван. И ты предан общему делу. Ведь ты – Моньо, простой монашек. Такие, как ты, и есть спасители мира. Ты агнус деи – агнец божий, искупающий грехи мира».
Ганелон упорно карабкался по узкой тропе.
Он знал, что ученый клирик терпеливо ждет его в замке.
На клирике драная ряса, он с вечно указующим перстом, в его руке пучок розог.
Он, Ганелон, научился составлять простые письма, он знает цифирь и с помощью божьей решает задачи, придуманные ученым клириком. Он может читать то, что видит в латинских книгах, он может разбирать римских и греческих авторов. Старая Хильдегунда уже не раз ловила Ганелона в верхней зале донжона за странным занятием. Считается, что он просто протирает в библиотеке старые телячьи переплеты, но Хильдегунда видела, что Ганелон гораздо больше интересуется тем, что написано в книгах. Он слишком часто заглядывает под переплет. Его рука с тряпкой в руке как бы ласкает крышку книги, но взгляд блуждает по тексту, и, кажется, он что-то там понимает.
К счастью, старая Хильдегунда никому не говорит о своих подозрениях.
Она жалеет Ганелона. В глазах старой служанки прячется жалость. «Бедный Ганелон, бедный Моньо! – Впервые монашком прозвала Ганелона именно Хильдегунда, за его кротость, внушенную ему многими болезнями и жизненными обидами. – Бедный монашек, бедный Моньо. Твоя мать в мучениях умерла, ее убила черная оспа. Твоего отца нет, он жестоко сожжен в собственном доме, а ты сам, бедный Моньо, болен. Заклинаю тебя, не гневи госпожу, не открывай тяжелые переплеты, не заглядывай в книги. Если твоя госпожа увидит это, ей это не понравится».
Так случилось, что когда Ганелону было пять лет, он увидел, как барон Теодульф сжег на костре катара.
Катар значит чистый. Но чистыми они только сами себя называют.
Как всякие еретики, катары намеренно лгут. Их слова, их понятия ложны. Барон Теодульф справедливо называл катаров тряпичниками. Патарии, так он их называл. Тряпичники. Они всегда и были тряпичниками. В лохмотьях, часто босиком, всегда пыльные, истомленные, с длинными отощавшими в скитаниях лицами, катары странствовали по дорогам Лангедока. Граф Тулузский покровительствовал тряпичникам. Может, потому что не хотел платить церковную десятину. Чем сильней распри церкви с тряпичниками, тем меньше внимания уделяют церковные власти тем, кто укрывается от налогов. Катаров видели в Альби, они проповедовали в Монпелье, в Ниме, в Безье, они босиком приходили из Милана и из страны болгар. Были такие церкви, где тряпичников привечали, и там, где это происходило, еретики открыто и громко распевали свои еретические гимны. Похоже, во всем Лангедоке только барон Теодульф с большим усердием преследовал катаров.
Правда, он преследовал и монахов.
Жирных крыс нельзя оставлять в покое, считал барон Теодульф.
Он задирал бородатую голову, его выпуклые глаза стеклянно блестели.
– Клянусь ступней святого Петра, Святая церковь тупа, она заплыла жиром! Проклятые симоньяки, проклятые монахи! Они занимаются только продажей индульгенций! Клянусь божьим гневом, клянусь всем, что видят мои глаза, Господь покарает всех, кто забыл о почтении к небу, к Господу и к сюзерену!
Пышные рукава, серый кожаный камзол, плотная кожаная куртка, двухцветные штаны, серый плащ с каймой красного цвета – барон Теодульф даже пеший возвышался над землей, как конная статуя. А сейчас он был на коне.
– Клянусь жизнью святых, Святая церковь совсем забыла об истинных живых душах! Святая римская церковь торгует индульгенциями налево и направо, проклятые симоньяки! Святая церковь не замечает лживых еретиков! Еретики, как ржавчина, поедают все, чего хотя бы раз коснулось сомнение! Я, благородный барон Теодульф, лучше накормлю свинью, чем подам ломоть хлеба монаху или тряпичнику. Ты слышишь, тряпичник? Никто не смеет ступить на мою землю без моего ведома. Король – мой сеньор, даже архиепископы являются его вассалами, но даже король не прикажет мне привечать еретиков-тряпичников. Сам папа в этом мне не указ, слышишь, еретик?
Барон обернулся к привязанному к столбу тряпичнику.
Лошадь под бароном тревожно дрогнула и, вздохнув, переступила с ноги на ногу.
Рослые дружинники за спиной барона так же тревожно дрогнули, впрочем, сохранив ровный строй. Катар, привязанный к деревянному столбу, продолжал негромко молиться. Простолюдины пугливо жались друг к другу. Им, мужичью, хамам, втайне нравились, наверное, слова тряпичника, ведь тряпичник проповедовал всеобщее смирение и равенство перед Богом. Так проповедуя, он как бы уравнивал благородных рыцарей и мужичье, но барон Теодульф – потомок великого Торквата, а Торкват всегда владел многими землями и многими людьми как здесь, так и в италийских пределах, лежащих за голубой цепью гор. Он, барон Теодульф, не допустит, чтобы по его землям бродил какой-то грязный тряпичник, приравнивая его к грязному мужичью, он не допустит, чтобы какой-то грязный тряпичник смущал бедные мозги бедных простолюдинов. Вот они стоят в башмаках из свиной кожи на деревянных колодках, вот они стоят в рубахах и штанах из грубой шерсти. Он, барон Теодульф, один в ответе за их темные души, он даже с легатов, присланных Римом, берет пошлину за тропы, ведущие через перевал!
Барон задохнулся от гнева. За его спиной, чуть впереди свирепых дружинников, юная и светловолосая Амансульта, истинная Кастеллоза, полузакрыв глаза и презрительно выпятив нижнюю губу, держалась рукой за луку седла, не замечая поглядывающего на нее сладко улыбающегося рыцаря Раймбаута. Еще в двух шагах от нее злобно скалился трувер де Борн, рыцарь Бертран де Борн, гостивший у барона Теодульфа. Неделю назад он принял участие в вооруженной вылазке против монастыря Барре, но проклятые монахи успели запереться в каменных стенах и удачно отбили штурм. Воспоминание об этом, так же как и сладкие взоры, бросаемые рыцарем Раймбаутом на юную Амансульту, разжигали сердце трувера мстительным огнем.
Барон махнул рукой, и огонь у ног катара занялся сразу.
Где-то неподалеку, наверное, свалившись в яму, но как бы в ответ на первую яркую вспышку огня взвизгнул и пронзительно заголосил поросенок. Так же пронзительно и в тот же самый момент заголосил тряпичник.
– Сын погибели! – заголосил он. – Злобный слуга сатаны! Пей свое нечистое вино, создание Сатанаила, утешай себя кровью чистых!
– Истинно так! – весело вскричал барон.
Ужасный вопль сжигаемого тряпичника веселил барона.
Уперев руки в бока, барон Теодульф застыл в седле, его выпуклые глаза выпучились. На кожаном камзоле в свете огня отчетливо виднелся искусно выдавленный мастером ключ – герб рода Торкватов. Всего лишь ключ. Просто ключ. И никакого девиза. Знающий поймёт.
– Сын погибели! Слуга Сатанаила!
Катар смолк, потом опять пронзительно завизжал.
Смолк и вновь пронзительно завизжал провалившийся в яму поросенок.
Их визг слился в один – страшный, заставив толпу простолюдинов вздохнуть.
Маленького Ганелона, стоявшего рядом с Гийомом-мельником, обдало странным холодом. Когда огонь резко возвысился, тряпичник на столбе уронил голову на грудь и смолк. «Монжуа!» – барон Теодульф с места сорвал лошадь и поскакал к замку, увлекая за собой гостей и дружинников.
Странные серые мухи поплыли перед глазами Ганелона.
Он вскрикнул. Болезненная судорога исказила мальчишеское лицо.
Он упал и совсем ничего не помнил, пока его не подтащили к колодцу и облили холодной водой. Даже сейчас при воспоминании о том дне и о сожженном катаре Ганелона передергивало.
Синева неба, поднял он голову.
Чудесный торжественный небесный жар.
Свет небесный, матерь Долороса скорбящая!
Незаметно преследуя Амансульту, Ганелон увидел: она остановилась.
Она поднялась высоко. Она стояла на берегу верхнего пруда. Долгая цепочка других таких же прудов, недавно восстановленных по ее приказу, тускло отсвечивала внизу.