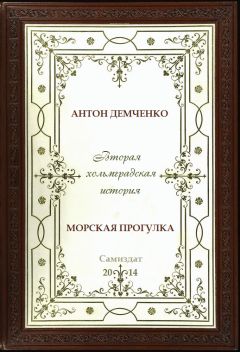Алесь Адамович - Последняя пастораль
— Да нет же ее, где ты видела ту Луну? Ни разу не было.
Действительно, на нашем круглом (как из колодца) небе, все на нем — ну не все, но многое — как прежде, а вот Луна не появлялась ни разу. Только солнце да звезды.
— А старый бродяга Млечный не приходил снова?
— Тебе смешно, а я во сне плачу.
— Космическая блудница — вот ты кто!
Глаза Ее, не раскрываясь, все больше наливаются смехом, он брызжет, проливается сквозь узенькие щелочки.
Я вспомнил и рад сообщить:
— У какого-то народа знаешь как Луна называлась? Беременная. Кажется, у хеттов.
— Ты мне солнце загородил. Нет, постой, ну куда ты уходишь? Я сейчас проснусь, сейчас. Иди сюда, тогда ты не будешь загораживать.
А дальше — что-то по-испански вроде. Ага, сегодня мы из Севильи! Или из Мексики, Эльдорадо?..
У нас с Нею кругосветное свадебное путешествие, по всем континентам, вот так — с закрытыми глазами.
Не знаю, что и как Она, но я вот что чувствую: мне последнему дано! может быть, последнее, и ничего этого уже никогда не будет!
Глотаешь, как воздух, который ушел, окончательно уходит, каждым вздохом догоняешь его, хватаешь — как мать за край пеленки, из которой выскальзывает верткий ребенок.
Эти Ее сны, космические, можно и так растолковать: когда нас было много, мы были малоинтересны далеким дядьям и теткам нашей Матери-Земли. Живут, толкутся ее бесчисленные двуногие любимцы, ну и ладно, если ей нравится. И вдруг немыслимое сотворили и с собой и с Матерью родной! Даже дальний Космос потянулся разглядеть: да что же это за шустрые детки?
Но я, кажется, перефилософствовал и забыл, зачем пришел, сижу себе перед пещерой. А голос сердито-обиженный:
— Ну что ты не идешь?
Глаза наконец открылись, по-детски радующиеся утру.
— Жду, жду…
И вдруг передернулся гримасой отвращения нежный рот, в глазах уже не пелена ласки, желания, а гнев, обида:
— Опять! Опять принес этот запах!
— Да какой запах? — Мне, конечно, тоже обидно. — Нет его, понимаешь, нет! Придумала ты все.
Придумала, конечно, но я-то зачем так старательно отмывался от несуществующего запаха? Странный мир, в котором мы оказались, диктует нам, определяет наше поведение, даже если оно против здравого смысла. Смысл-то этот здравым когда был? Когда и мир был совсем иным!
Она очень чутко уловила искренность, глубину моей обиды, ущемленного мужского самолюбия. Я ведь помню (и Она, конечно, тоже), когда, в какое утро объявились эти проклятые желтые цветы: да, да, после нашей первой ночи! Не в этом ли тайна и ответ? Как бы уловив тень опасной моей догадки, Она тотчас переменилась вся: ни сонливости, ни гримасы будто и не было! Одна лишь радость утра.
— Тащи! — выкинула тонкие руки из пещеры, показывая, какие они длинные и какая Она вся: руки, шея, вытянуто-суженная талия, запавший живот, а где-то там, дальше, еще и ноги — тянущийся растягивающийся, многочленистый Даждь-бог, извлекаемый моим взглядом из языческой пещеры.
Но хватит выманивать взглядом, теперь приказано тащить-вытаскивать руками за руки.
Я взял Ее пальцы в свои, погладил, прижал к земле узкую ладошку, которая шустрым зверьком тут же перевернулась и царапнула мою коготками. Нет, нет, ничего не имеет в виду! Глаза закрыты невинно, ожидающе.
— Ну где ты там? Тащи!
Нравится нам с Нею вытаскивать Ее из сна, тащить-волочить из каменной норы, длинную-предлинную. В такую безразлично-послушную превратилась, сонно расслабилась каждым сочленением, тащишь, растягиваешь, а Она все на месте, только розовее, светлее кожа становится на изгибах рук да на животе. Живой поезд бесконечен, сколько его еще там остается, в норе? Сначала одни только руки на солнце (загар сразу заметнее становится), а все остальное там, в прохладном каменном полумраке. Тащу старательно, медленно, продлевая насколько можно эту процедуру. Вот уже и лицо с зажмуренными глазами на свету, волосы озаренно вспыхнули, тянутся, отставая и запутываясь в водорослях, волосы — как золотистые волны, а плечи, грудь — как рифы из-под волн, то появляются, то исчезают. Следом ныряет и мой взгляд.
Зато Она, спокойная-преспокойная, отдала моим рукам и глазам себя, такую бесчувственную, такую ни на что не реагирующую, — чем не многовагонный состав, вытаскиваемый из тоннеля? Ничего не знаем, не чувствуем, не ощущаем! Значит, жди неожиданности: вдруг подскочит и повиснет на мне с дикарским воплем или сотворит еще что-нибудь. Видали мы этих послушно-бесчувственных! Вот язычком вдруг попыталась достать собственное плечо. (Мы, кажется, сегодня далеко не уедем от нашей пещеры.) Длинно тянущийся живой поезд уже покинул депо-нору, граница тени и света медленно передвигается, плавно сужаясь на животе и круто расширяясь бедрах. На солнце загар заметнее, поэтому то, что еще остается в тени пещеры, светлее того, что выехало. Щелочки глаз напряженно поблескивают — изготовилась, негодница, что-то сейчас выкинет, может, мы просто хотим подсмотреть, убедиться, как нами любуются, достойный ли прием оказывают, а значит, каких милостей заслуживают. А работник уже отдыхает от тяжких трудов, удерживая на весу за руки добытое: предстоит коронное ритуальное действо. Будем извлекать самое длинное, что у нас имеется, — ноги. Она ждет покорно, терпеливо, вслушивается в мою побасенку про соревнование сельских врунов («Когда волы моего деда с пашни вертались, одни рога шли через ворота одиннадцать дней…»). Даже ресницы не дрогнули: одиннадцать так одиннадцать. Еще посмотрим, сколько времени займут наши ноги!..
— Ну ладно, поехали! — набрал воздуху работник.
Ах вот как сегодня! Она пружинисто поджала ноги, выпрыгнула из пещерной тени, повисла на шее и крутанулась вокруг меня, стараясь ногами не касаться земли. Завизжала от такой хитрости и удачи. И тут же спокойно распорядилась:
— Все, идем под душ.
4
Хлое, глядевшей на него, Дафнис показался прекрасным, и так как впервые прекрасным он ей показался, то причиной его красоты она сочла купанье. Когда же она стала омывать ему спину, то его нежное тело легко поддавалось руке, так что не раз она украдкой к своему прикасалась телу, желая узнать, какое нежнее.
Лонг, «Дафнис и Хлоя».Мы направляемся туда, где уже издали слышен живой гул и плеск падающей воды. Я обкосил все тропинки, ведущие к водопаду У нас хорошее настроение, точнее у Нее, ну а мое — в прямой от Нее зависимости. То идет тихо-мирно, то вдруг бросится и снова повиснет на мне, поджав ноги: неси, тащи! Или завизжит. Это у нас называется: «Огласим пустыню немым криком!» Что странно на этом острове, но чего Она, кажется, не замечает: иногда исчезает эхо. Многое замечаю лишь я, вот и эта странность одного меня преследует: рев водопада далеко слышен, урони камень со скалы — загремит, а крикни — как в вату. Поэтому хочется говорить потише. Но это мне так, а Ее вроде бы ничто не гнетет. Чего-чего, а странностей на этом острове… Некоторые мы, не сговариваясь, стараемся не замечать. В прямом смысле не видеть, не смотреть по сторонам. И это нам удается не хуже, чем человеку на дне колодца: куда же ему еще смотреть, как не вверх в небо? Не на стены же, со всех сторон сжимающие, теснящие. В небо да еще друг на друга: нас, слава богу, двое. В небе днем яркое солнце, ходит оно не как прежде, по дуге, а по кругу, но мы уже привыкли. По кругу даже лучше, может, это Заполярье такое. Научились не удивляться. Например, тому, что ночные звезды как-то помещаются — все какие есть — на небольшой тарелке нашего неба.
А на то, что могло бы нас смутить, мы стараемся не смотреть. На глыбы тяжеленного мрака — стены нашего «колодца», высоко встающие над нами. Их полосуют веера огненных трещин-молний, немых, неслышных. А не слышишь, так можно и не смотреть. Не глядишь — вроде и нет этого. Есть на что, на кого смотреть: нас двое!
Но иногда начинаешь прикидывать (профессиональное для морехода): сколько, какое расстояние до тех стен и молний? Сто метров? пять километров? — каждый раз увидишь по-разному.
Поднялись по голой плоской скале к водопаду, образуемому приливами: по ночам в огромную гранитную чашу там, наверху, захлестывают волны, сладостно, — как сны моей Евы, тянущиеся, подтягивающиеся к невидимой Селене. Воды хватает как раз на сутки: она гладко, как светлое масло, опоясанное радугой, выливается сквозь широкую щель и каменно-громко падает на чуть скошенную скалу. Мы не сразу разглядели, что это наше «удобство» — человеческих рук сотворение (скорее всего инженерно точно направленным взрывом).
За падающей водой спрятана тайна, тоже человеческая. Чему служил или должен был служить этот искусственный водопад, мы догадываемся, но тоже стараемся не думать, не говорить об этом. Довольно того, что он у нас есть, роскошный душ, место, где мы обычно проводим самые веселые часы дня. Тут мы и рыбкой запасаемся: вода падает с пятиметровой высоты, оглушенные рыбины мгновенными осколками разлетаются в разные стороны, мы (Она особенно) с криком бросаемся к ним, хватаем добычу. Пугливо откидывая голову назад и в сторону, Она изо всех сил прижимает бьющуюся рыбину к животу, к груди и кричит умоляюще: