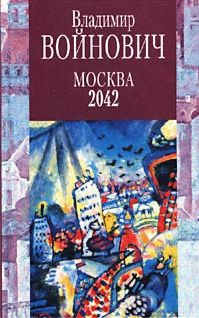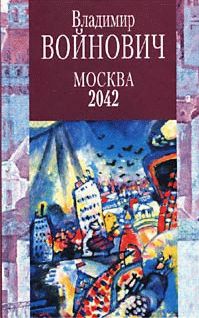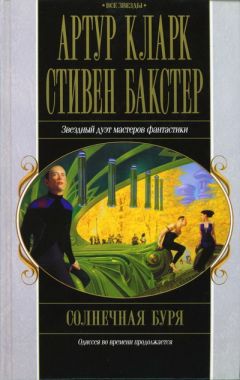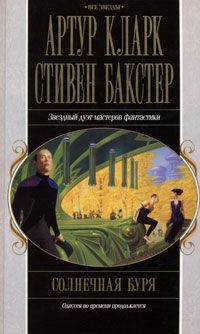Владимир Войнович - Москва 2042
– Ага! – понял я разочарованно. – Вы мои книги проходили. Но читать их запрещено, как и раньше.
– Ни в коем случае! – решительно возразил Смерчев. – Ну зачем же вы так плохо о нас думаете? У нас ничего не запрещено. Просто наши потребности в предварительной литературе полностью удовлетворены.
– Тем более, что идейно предварительная литература часто была очень невыдержанна, – заметила Пропаганда Парамоновна. – В ней было много метафизики, гегельянства и кантианства.
– И много даже кощунства против нашей коммунистической религии, – поддержал ее молчавший до того отец Звездоний.
– И метод социалистического реализма, которым пользовались предварительные писатели, сказала Пропаганда Парамоновна, партия давно осудила как ошибочный и вредный. Правилен только один метод коммунистического реализма.
– Да и вообще, – сказал Смерчев, – вы должны понять, дорогой наш Классик, что за тот исторический промежуток, который отделяет наше время от вашего, наша литература настолько выросла, что по сравнению с ней все писания ваши и ваших современников выглядят просто жалкими и беспомощными.
– Да, да, да, да, сказал Звездоний, и все они грустно закивали головами.
– Ну все-таки не все, – опять защитил меня Сиромахин. – У него есть одна замечательная книга, которая по своему уровню приближается даже, я бы сказал, к ранним образцам комреализма. К сожалению, – повернулся он ко мне, – вы ее с собой почему-то не привезли. Но мы ее найдем…
– И поправим, подсказал Смерчев.
– Ну да, немножко поправим и, может быть, даже переиздадим.
О какой книге шла речь, я не понял Но спрашивать мне уже ничего не хотелось. И бороться не хотелось. Поэтому, когда у меня изымали планы Москвы, майки с надписью Мюнхен и жвачки, я даже не стал спрашивать почему, мне все надоело до чертиков.
И когда мне дали расписаться под списком изъятых вещей, я подмахнул его, не глядя.
На троих
Но это было не последнее мое испытание.
После таможенного досмотра мы двинулись дальше и вскоре приблизились к двери с вывеской:
ПУНКТ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ.
Смерчев извинился и сказал, что санитарная обработка совершенно мне необходима, поскольку в Москорепе принимаются самые строгие меры против завоза из колец враждебности эпидемических заболеваний.
Искрина Романовна предложила взять на хранение мои ценные вещи, и я отдал ей сильно полегчавший дипломат, часы и бумажник.
Комписы остались за дверью, а я вошел в помещение, которое оказалось предбанником с длинными деревянными скамейками. На одной из них в углу раздевались уже виденные мною шоферы паровика-лесовоза и вполне дружелюбно разговаривали между собой на чистейшем без всяких примесей предварительном языке, поминутно поминая Гениалиссимуса и его родственников по материнской линии.
Большой палец одного из шоферов был перевязан черной изоляционной лентой.
Глядя на шоферов, я тоже стал раздеваться. Как ни странно, несмотря на невыносимую жару снаружи, здесь было просто холодно, тело мое сразу стало синеть и покрываться гусиной кожей.
Женщина в белом халате скучала за деревянной перегородкой.
Шоферы сдали ей свою одежду, получили взамен каждый по деревянной шайке и пошли дальше. Я тоже подошел к тетке, сдал белье и получил шайку. Она была мокрая, скользкая и без ручки.
В следующей комнате я встретил женщину с большой машинкой, созданной, вероятно, для стрижки овец, а не людей. Женщина предложила мне постричься. Я сел, прикрываясь тазиком, и попросил подстричь меня под полубокс. Она, ничего не ответив и ничем меня не накрыв, тут же провела мне широкую просеку посреди темени.
– Мадам! – вскочил я. – Что это такое вы делаете? Да вы с ума сошли! Я же просил сделать мне полубокс.
Она сначала даже не поняла, чего я от нее хочу, а потом объяснила, что все граждане Москорепа в порядке борьбы с ненужными насекомыми стригутся исключительно только под ноль, а волосы сдаются на пункты вторсырья для дальнейшей утилизации.
Потерять ни с того ни с сего мою замечательную прическу было обидно, но, как говорят, снявши голову, по волосам не плачут.
Я проследовал дальше и вскоре оказался перед дверью с вывеской:
ЗАЛ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОМЫВА.
Сбоку от вывески был помещен документ, который назывался ПРОЧТИ И ЗАПОМНИ. Это были правила поведения для моющихся. Они были составлены в возвышенных выражениях и сопровождены эпиграфом из какого-то якобы произведения Гениалиссимуса: В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и тело.
Правила начинались с сообщения об огромной и неустанной заботе, которую Гениалиссимус и руководимая им партия изо дня в день проявляют по отношению к гражданам коммунистической республики. Благодаря этой заботе практически каждый комунянин получил возможность полностью и регулярно удовлетворять свои потребности в поверхностном помыве.
Однако, как постоянно учит Гениалиссимус, бережливость должна войти в привычку, должна стать второй, а то и первой натурой каждого комунянина. Приступая к помыву, следует избегать расточительности и расходовать воду лишь в пределах естественной потребности, которую вычислить совсем нетрудно. Для этого надо умножить свой вес в килограммах на рост в сантиметрах и полученное произведение разделить на коэффициент 2145. В результате получим соответствующее реальным потребностям индивидуума количество шайко-объемов воды горяче-холодной. Я несколько обеспокоился, что прежде, чем приступить к поверхностному помыву, мне придется произвести непосильные для меня математические вычисления, но приведенная тут же таблица меня успокоила, там было все подсчитано заранее. При моем росте 165 сантиметров и весе 78 килограммов моя потребность удовлетворялась ровно шестью шайко-объемами.
Правила также указывали, что потребителям пунктов помыва запрещено:
1. Мыться в верхней одежде.
2. Играть на музыкальных инструментах.
3. Отправлять естественные надобности.
4. Портить коммунистическое имущество.
5. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью шаек и других орудий помыва.
Читая инструкцию, я краем глаза заметил, что мимо меня сначала прошли двое мужчин, потом одна женщина, потом целая семья – муж, жена и мальчик, потом еще две женщины, все, естественно, голые. Я все же как-то заколебался и спросил подошедшего толстяка, где здесь мужское отделение. Тот удивился:
– А ты, малый, из какой деревни приехал?
– Из Штокдорфа, сказал я.
– Из Шатурторфа?
Не из Шатурторфа, а из Штокдорфа, – поправил я.
– Такого названия я что-то вроде и не встречал, сказал толстяк. – А где это? Далече?
– Да так, – сказал я. Лет шестьдесят отсюда.
Он посмотрел на меня совсем как на идиота и сказал, что разделение различных предприятий на мужские и женские еще существует только в кольцах враждебности, а здесь полное равенство и разница между женщиной и мужчиной практически стерта.
Я невольно скосил глаз и убедился, что у толстяка разница и в самом деле основательно стерта.
Изнутри зал поверхностного помыва ничего особенно интересного собою не представлял. Баня как баня. Длинные каменные лавки, краны вдоль с ген, пар, гул голосов. Мужчины и женщины мылись вместе, меня это удивляло только потому, что происходило в Москве. Но такое свободное смешение полов мне приходилось видеть и за шестьдесят лет до этого, еще в Третьем Кольце.
Зал был большой, с колоннами. На одной из колонн я увидел стрелку и под ней надпись: Удовлетворение сексуальных потребностей за углом. Все-таки сколько удивительных перемен произошло за время моего отсутствия! Между прочим, ниже упомянутой надписи гвоздем было нацарапано слово СИМ. Я опять вспомнил Симыча и подумал, что хорошо бы его завести сюда в эту смешанную баню, чтобы он посмотрел, до чего эти заглотчики только додумались. Представляю, как бы он тут плевался.
Я прошел несколько шагов в направлении, указанном стрелкой, и передо мной возникли из пара те самые шоферы, которых я уже дважды видел. Держа в руках пластмассовые стаканчики с чем-то темным, они явно с низменными целями наседали на щуплую девицу, которая, как ни странно, была почти одета. Причинное место у нее было прикрыто клеенчатым лепестком, а на сосках были какие-то звездочки. Несмотря на игривые цели, лица у всех троих были сердитые.
Я хотел пройти мимо, но шофер с перевязанным пальцем остановил меня вопросом:
– Отец, третьим будешь?
В другой раз я на обращение отец мог бы обидеться, а то и в рожу заехать. Но сейчас я обрадовался, узнав, что святая традиция пить на троих дожила вместе со мной до коммунизма. Аромат болтавшейся в стаканчиках жидкости достигал моих ноздрей и, прямо сказать, был не очень-то аппетитен. Но дело не в аромате. От одного только запаха того, что мне приходилось лакать, лошади падали в обморок. И сейчас я выпил бы хоть керосин. Но я до того устал, что от одной рюмки чего угодно мог бы просто свалиться и не встать. Поэтому я себя пересилил и, приложив руку к груди, сказал шоферам наставительно: