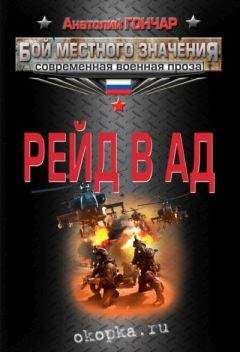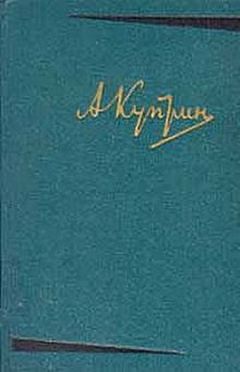Валерий Большаков - Преторианец
Подводный рокот резко усилился, из кратеров на острове полезла грязь, бурление грифонов стало грозным.
– Там огромное пластовое давление… – пробормотал Гефестай.
И вдруг рокот стих. Море очистилось от неприятной серости, вновь заиграло обливной зеленью, и даже грязь в кратерах перестала выдувать полусферы громадных пузырей.
Римляне замерли на мгновение и радостно заголосили.
– Нептун принял нашу жертву! – воскликнул фламин.
– Вот и славно… – проворчал Нигрин, поудобней устраиваясь у походного стола.
– Плохо дело… – тихо сказал Гефестай.
– Что? – спросил Лобанов. – Рванет, думаешь?
– Скорее всего!
До самого полудня ничего не происходило. С востока, ориентируясь на сигнальный дым, подошли либурны. Сразу после прандия зачернели камары, набирая скорость с посвежевшим ветром.
– Отправляемся! – скомандовал Нигрин, и все пришло в движение. Сворачивались ковры, убирались навесы, легионеры живо взбирались на борта трирем по приставным лестницам.
Рабам-гладиаторам досталась самая грязная работенка – мытье посуды. Надраив котел песком и ополоснув в набежавшей волне, Лобанов передал его Эдику, а сам принялся надувать опустевшие меха из-под вина.
– Как говорил мой дед Могамчери, – пропыхтел Эдик, подхватывая четыре котла зараз, – «Помогай себе сам, и боги тебе помогут!»
– Это точно…
На палубе триремы Лобанова встретили хохотом. Легионеры надрывали животики, наблюдая за рабом, увешавшим себя надутыми мехами.
– Зачем ты их надул, дубина? – простонал Назика.
– Пригодится… – буркнул Лобанов.
– Ох уж эти варвары, – снисходительно заметил фламин, – все у них не как у людей!
– Рей поднять! – скомандовал губернатор.
Классиарии под чутким руководством Гармахиса потянули снасти, и рей, несущий главный парус, толчками полез на мачту.
– Парус распустить!
Широкое полотнище хлопнуло и выдулось, наполненное ветром. Заплескали волны, колотя в борта. И тут удар чудовищной силы сотряс корабль. Волны прямо по курсу расступились, хороня впереди идущую трирему «Пистрис», а в следующее мгновение ее бросило к небесам. Люди оцепенели. Исполинский столб призрачно-белесого газа взмыл к облакам, раскалывая воздух грохотом. Тут же, надрывая пораженное воображение, от моря к небу рвануло бледное пламя. Колоссальный огненный факел забил вверх с диким ревом. Словно сам Тифон, кошмарное порождение Геи, встал из волн, захлестал руками-змеями, издавая надсадный вой и пугая все живое.
Несчастный «Пистрис», объятый пламенем, рухнул в море, переворачиваясь и ломаясь пополам. Громадная волна ударила в борт «Майи», трирема легла на бок, шлепая по воде лопнувшим парусом. Людей с палубы смело, как крошки со стола.
Отфыркиваясь, Лобанов вынырнул и осмотрелся. Неподалеку плескался Гефестай с Искандером.
– Эдик где? – прокричал Сергей, пытаясь переорать грохочущий рев огня, бьющего из глубин.
– Здесь я! – завопил Чанба, поднимая руку. Эдик отплевывался, держась за ванты подломленной мачты.
– Ловите меха!
Гладиаторы разобрали надутые меха, и жить стало легче. Ветер доносил вопли утопающих. Лобанов чудом разобрал голосок Авидии Нигрины, молящий о спасении. Он поплыл на голос, держа мех под мышкой, мощно загребая свободной рукой.
– Авидия! – проорал он, поднимаясь из воды на манер дельфина. – Где ты?!
– Я здесь! – откликнулся слабенький голосочек.
Дочь консуляра и сенатора била руками и ногами, путаясь в тунике, то и дело погружаясь с головой и снова выныривая, округляя и без того огромные глаза. В глазах этих плескался ужас и отчаяние.
– Сергий!
– Здесь я, здесь! Не бойся! Хватайся за мех! Во!
Бережно поддерживая девушку, Сергей повернул к триреме. Бедный корабль с трудом вставал на киль. Гармахис, бешено работая топором, рубил треснувшую мачту, классиарии резали такелаж. Из трюма доносились крики таламитов, и только тогда до Сергея дошло, что клокочущий рев газа уже не слышен, факел погас. Море еще бурлило, рябое от пузырей, но рокот, сотрясавший тело, стихал.
– Берегись! – крикнул гортатор.
Затрещав, упала мачта, распуская, как щупальца, обрывки штагов и вант. Трирема выпрямилась, закачалась на волне. Крен все еще сохранялся, и довольно сильный, но эти мелочи уже не пугали экипаж, чудом уберегшийся от смерти.
Лобанов подплыл к накренившемуся борту и помог Авидии взобраться на клонящуюся палубу. Мокрая туника красиво облепила бедра девушки, а когда Авидия повернулась, протягивая руку своему спасителю, Сергей жадно вперился в шары грудей, видимые под мокрой тканью, словно сквозь мутноватое стекло. Даже цвет ареол различался, а розовые соски топорщили тунику, набухшие и отвердевшие от холодной воды. У Лобанова, правда, мелькнула мыслишка о чем-то ином… Тут-то он и заметил маленький серебряный крестик, висевший у Авидии на шее и прятавшийся между грудей.
– Ты христианка? – спросил он, выкарабкиваясь на палубу.
Девушка испуганно взглянула на него.
– Д-да… – ответила она с запинкой. – Только ты не говори никому!
– Ну что ты, лапочка! – сказал Сергей ласково.
Авидия на «лапочку» не обиделась, покраснела только.
– Руку! – заорал из воды ее отец, напоминающий в этот момент худого тюленя, смеху ради одетого в тунику.
Лобанов протянул правую руку Нигрину, левой хватаясь за релинги, и потащил бегемота из болота.
– Гефестай… – позвал он задушенно.
Подскочил сын Ярная, и они вдвоем выволокли на палубу своего хозяина. Конечно, про себя они это слово брали в кавычки, но реальность в кавычки не возьмешь…
– Что стоим?! – рявкнул Нигрин, бледный от пережитых страхов. – Воду за вас я буду откачивать?!
– Отец! – прозвенел голос Авидии. – Сергий меня спас!
Гай Нигрин тяжело засопел.
– Все в трюм, – сказал он тоном ниже, – к сентинакуле…[70]
Сотни человек так и недосчитались – видать, Нептун не удовлетворился барашком… Еще человек десять утопших таламитов Лобанов с Гефестаем повытаскивали из трюма, пока Эдик с Искандером качали скрипучую сентинакулу. «Пистрис» выгорел до самого киля, и свинцовые листы, набитые на обшивку, утянули останки корабля на беспокойное каспийское дно. Подобрав убавленный экипаж «Пистриса», триремы потихоньку двинулись к северу. «Майя» шла под косыми парусами на двух мачтах и отставала от более ходких судов. Пришлось садиться на весла, подгонять корабль.
Париться гранитам пришлось недолго. Вскоре мутный горизонт прорезался темной полоской – это завиднелся полуостров Апшерон. Весь флот – и триремы, и либурны, и камары – сбились в кучу и подались в бухту, которую через века назовут Бакинской.
А пока что никакого Баку не было и в проекте. На берегу, примерно там, где в будущем воздвигнут Девичью башню, пластался римский поселочек Романа – большой лагерь, обнесенный частоколом и застроенный бараками. С давних пор в лагере стояли две-три когорты Двенадцатого Молниеносного легиона, а в бухте болталась эскадра либурнов и трирем – играть на нервах парфян.
За последние двести лет лагерь оброс канабом – поселком, где жили гражданские. Жались к лагерю местные албанцы и пришлые саки. Захаживали сюда и армянские купцы, спускались с гор аланы, прибредали даже сарматы. Ибериец Бакур сын Аникета завел в Романе лавку-таберну, армянин Вараздат держал харчевню, а сакская мадам Зарина открыла лупанарий.
Прибытие легионов Гая Нигрина взбаламутило сонное полубытие заброшенного гарнизона, пустая и тусклая жизнь вдруг заиграла красками, на прямых, грязных улочках канаба стало людно, в харчевне у Вараздата стояли очереди, а девочки мадам Зарины ишачили в три смены. Но тонус Романе подняли ненадолго. Гай Авидий Нигрин спешил в Рим, его ждали великие дела. И неделю спустя легионы покинули Роману. Путь их лежал на запад, к столице Албании Хабале, и дальше – по долине Куры, по Алазани, в земли царя Иберийского Фарасмана Квели, что означало «доблестный».
Все разношерстное население Романы собралось проводить войско – топталось на окраине опустевшего, затихшего поселка, глядело вслед топавшим легионерам и слушало походную песню:
Когда я встал под аквилу с орлом
(Не вчера ль я под аквилу встал?),
Я девушку, ту, что из Клузия,
У дома ее поцеловал!
И все когорты грянули припев:
Дорога, дорога, на двадцать лет вперед!
Поцеловал и из Клузия ушел в поход!
Пока легионы пробирались горами и долами Северной Колхиды, Гай Авидий Нигрин успел притомиться. И не столько телом, сколько душой. Он извелся весь в думах об упущенном венце императора, все нервы себе повымотал бесконечными сожалениями да рефлексиями.
На дорогах Иберии (хотя какие это дороги? Тропы!) к каравану прибился туземный князек, Радамист сын Фарнабаза. Местная знать прозывалась и вовсе непроизносимо – царчинебулни, и Радамист был как раз из этих, которые на «цар»… Младшим питиахши числился сын Фарнабаза. Правил он какой-то зачуханной долиной и склоном какой-то зачуханной горы, где спокон веку стояла какая-то зачуханная деревушка. Только вот случилось поветрие, и вся тамошняя чернь – цврили эри – переселилась на кладбище. Некому стало кормить Радамиста, а у царька Фарасмана и своих питиахши девать было некуда. Вот и вознамерился Радамист приискать себе нового патрона. И Нигрин пригрел младшего питиахши, как когда-то Мир-Арзала с его головорезами.