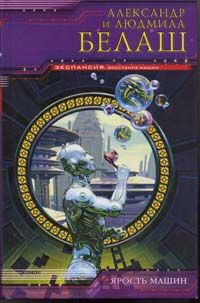Александр Тюрин - Ядерное лето 39-го (сборник)
А Ксеничке вдруг стало страшно. Она вспомнила, как немцы бомбили Москву – когда она была еще маленькой, когда ей было восемь лет. «Здесь же нет метро, – подумала она. – Куда мы будем прятаться?..»
* * *…Собственно, в Петропавловске его командировка и закончилась. Молнированные новости перехватили его в штабе фронта, и он даже не понял, какое чувство испытал, прочтя и перечтя их – облегчение? радость? Или просто почувствовал, как наваливается разом усталость последних недель и месяцев? Наверное, все-таки больше всего – усталость, потому что первой мыслью, кажется, было – «Ну все, теперь можно отдохнуть…»
«Завтра, – успел подумать он, прежде чем голова коснулась планшета, положенного вместо подушки на жесткий валик какого-то штабного дивана, и мгновенно навалился сон, – уже завтра все начнется сначала – хотя и мир…»
Сон пришел – такой же, как и во все эти недели – еще не мирный. Ему снилось, что остался только он и дюралевое брюхо «дугласа», что мир исчез, оставив от себя только слепок в эфире – позывные, частоты, пеленги. И бесконечным полем разворачивались перед ним утыканные флажками карты Монголии, Манчжурии, Урала и каких-то неведомых, еще необстрелянных земель, где только предстоит развернуться чьим-то дивизиям и влиться в слепок мира первым выходом штабной рации в эфир…
* * *Она сидела в углу кухни, а мама с полотенцем и поварешкой в руках куховарила у плиты. Слово «куховарить» Ксеничка подхватила у Милы, Людмилы Георгиевны, и оно ей страшно нравилось. Мама, как всегда, говорила что-то о дороговизне продуктов и как «ничего не достанешь», но Ксеничка слушала в пол-уха – она-то знала, что деньги в доме были, а покупает мама все и так почти только на рынке. Видно, мама заметила, что она смотрит, скучая, в окно, и ворчливо начала:
– Я смотрю, ты меня слушать совсем не хочешь. И вообще… – но закончить не успела, потому что хлопнула входная дверь, и папа не вошел, а скорее вбежал в квартиру и, бросив на стол газету, обнял ее и маму. У него было такое лицо, что мама испуганно прижала к груди руку с полотенцем, а у Ксенички замерло сердце. Ей стало страшно – а вдруг и ее папа тоже уходит на войну, как Юркин папа и Наташкин брат – но папа радостно сказал:
– Все, все, войны не будет!
Огромными буквами на первой странице было написано: «Переговоры в Томске!». Мама повертела в руках свое полотенце, не зная, куда деть, бросила его, не глядя, на стол и обняла папу, а Ксеничка тоненьким голоском закричала: «Ура! Папку не убьют!» – и мама, вытерев глаза, сказала: – Ну что ты, как дурочка… – и папа снова обнял их обеих. Принесенная папой газета свалилась на пол и развернулась посредине. На развороте тоже, наверное, что-то было написано про переговоры и про мир, только что именно, Ксеничке не было видно от слез…
* * *…Из окна она увидела, как дядя Митя выкатил свой мотоцикл из сарайчика и стал протирать его тряпочкой. Стараясь не шуметь – папа с мамой в комнате обсуждали какие-то свои дела, – Ксеничка выбежала во двор. На нижней площадке она остановилась, чтобы отдышаться и поправить волосы, и подошла к нему, когда он как раз уселся на мотоцикл и пару раз погазовал.
– Дядь Мить, а вы куда собираетесь ехать?
– Да, в общем-то, никуда – вот, проветрю свою лошадку, – он похлопал мотоцикл по баку так, словно он действительно был живой.
– А меня ну хоть разочек покатаете на мотоцикле? – она посмотрела на него искательно.
– Так почему бы и нет? Давай садись!
На всякий случай оглянувшись – не смотрит ли кто на них? – Ксеничка вскарабкалась на заднее сиденье смущенно, не зная, как пристроить задравшийся выше колен подол платья. Ефим Иосифович из второй квартиры не обратил на них никакого внимания – он, блестя лысиной, сидел на пустом фанерном ящике и, глядя на вешавшую белье Стешу, пил из бидончика принесенное с рынка пиво. А больше во дворе никого не было.
Дядя Митя резко дернул с места, так, что она едва не свалилась, и он, повернув голову, быстро сказал: «Хватайся крепче!» – и Ксеничка обняла его обеими руками, прижимаясь вся к его кожаной куртке. Желтые листья поднялись за ними шлейфом, и они вылетели под арку и на улицу. Ехали они очень быстро, ветер рвал и трепал ее платье, а на поворотах дядя Митя так сильно наклонял мотоцикл, что казалось, они вот-вот упадут – но было совсем не страшно, а здорово.
Они выехали на набережную, переехали по мосту на левый берег и, миновав железную дорогу, остановились у излучины, за озером. Дядя Митя заглушил мотор мотоцикла, и они уселись на берегу. От реки несло прохладой, Ксеничка зябко повела плечами, и он накинул ей на плечи свою кожанку. Говорить ни о чем не хотелось, и они просто сидели рядом, молча, и смотрели на воду. Береза, вся словно осыпанная багрянцем, изредка роняла на них свои листья.
Наверное, надо было о чем-то говорить, в книжках в таких местах обязательно говорили о чем-то таком… Она даже чуточку смутилась и посмотрела на дядю Митю – но он молча курил, пуская дым в сторону и придерживая одной рукой куртку у нее на плечах. Тихонько, как бы невзначай, а может, и впрямь не замечая этого сама, она прижалась к его плечу.
Когда он спросил: «Ну что не замерзла?» – она замотала головой, хотя, конечно, жарко ей вовсе не было. Видно, он понял это, потому что сказал: «Нет, давай все-таки поедем», – и пришлось с сожалением вставать. К подолу пристала пара опавших листьев, и пока она отряхивалась, дядя Митя завел мотоцикл. А потом они снова понеслись, и она крепко держалась за него. Кожаная куртка теперь была на ней, а ветер рвал и трепал его гимнастерку, и Ксеничка с непривычным чувством подумала – не простудился бы…
Когда они выехали к мосту, дядя Митя вдруг остановился и, повернув голову, сказал:
– Давай заедем на Народную к Пете с Милой.
Это было неожиданно, и чуть опешив, Ксеничка спросила:
– А у них сегодня никакого праздника нету? А то я опять не готова буду…
Он усмехнулся.
– Да какой там праздник – обыкновенное воскресенье. Чего ты боишься?
– Я не боюсь, просто…
– Ну раз просто – поехали.
И они снова помчались – по мосту и по бульвару, и какая-то собачонка попыталась их с лаем догнать – но куда там, они ведь мчались как ветер и даже быстрее ветра…
Петр Прокопович сидел на низеньком стульчике возле крылечка, выставив вперед одну ногу—точнее, протез, – и чинил парусиновые туфли. Увидев их, подъезжающих, он обрадовался и громко позвал жену, откладывая в сторону инструмент:
– Милочко, выходь, до нас молодята у гости!
Что такое «молодята», Ксеничка не знала, но догадалась и чуточку покраснела. На крыльцо вышла Людмила, из-за ее юбки, сверкая глазами и сжимая в кулачке понадкусаный кусок хлеба, выглядывала девочка лет трех. Она была похожа на маму – и лицом, и волосами, убранными в косы, и передником с оборками.
Людмила радостно пошла им навстречу, вытирая на ходу руки. Девочка смешно потопала за ней, все так же прячась за юбку, но, увидев, что мама здоровается с незнакомцами, подошла к Ксеничке и, подергав ее за подол, доверчиво сказала:
– Тетя, а у нас котятки народились. Хотите, покажу?..
* * *…Занятия начались только в середине сентября, учиться в школе было скучно, с самого начала Ксеничка катилась на четверках и троечках, но дома ее не ругали. Папа был весь занят проблемами у себя в снабжении, и по вечерам они с мамой чаще о чем-то напряженно разговаривали на кухне, чем интересовались Ксеничкиными успехами в школе. В классе разговоры были теперь только об американцах – оказалось, что это не «настоящие» летчики, а «аэродромная обслуга», как заявил Сережка, доставший откуда-то – наверное, оттуда же, откуда и столь ценную информацию – американскую пилотку. Учителя требовали, чтобы он ее снимал хотя бы на уроках, и он нехотя подчинялся. Джек, хоть он и просидел лето на даче, говорил теперь, что собирается переходить в кадетский корпус, который собирались открыть в городе харбинцы. Никто пока толком не знал, что это такое, но Джек важно добавлял – «а потом в военное, на летчика». Зная английский, он сразу после школы отправлялся к клубу авиаторов – да, в общем-то, половина класса делала то же самое. А Наташка, собрав вокруг себя на перемене кружок, в лицах показывала, как ее соседка таскала за косы свою дочь возле клуба, и как они громко ругались прямо посреди улицы.
На бульваре вечером она встретила Машку с Витькой. На Машке была юбка по новой моде – с воланом, такая, что даже коленки было видно, – но это было еще полдела. На Витьке вместо пиджачка поверх тельняшки была американская летчицкая куртка, за скатку засученного рукава была как бы небрежно заткнута пачка сигарет—тоже, наверное, американских, с большим красным кругом на пачке. Даже прическа у него была теперь точь-в-точь как у большинства американских летчиков.
Наверное, в глазах у Ксенички был немой вопрос, потому что гордо державшая Витьку под руку Машка сказала: