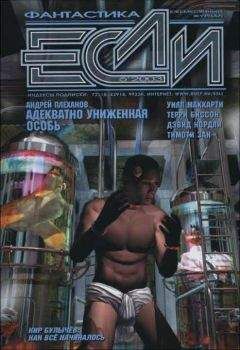Том Маккарти - Тинтин и тайна литературы
iii
Эта цитата возвращает нас к «Отколотому уху». Скульптор Бальтазар, изготовитель копии фетиша, удостоился похвал критики за свой вклад в примитивизм. Фигура Бальтазара объединяет логику архаичного мироощущения с логикой искусства. Копирование, имитация, создание подобий – вот для чего Бальтазар применяет свой талант художника. Вот что он проделывает с фетишем, вот каким целям служит его творчество в целом. «Цветы прямо как настоящие, кажется, вот-вот заулыбаются» («Comme elles sont naturelles; on dirait qu’elles vont rire»), – говорит квартирная хозяйка Бальтазара, рассматривая картину в стиле Ван Гога.
Эта дама затрагивает абсолютно классический мотив – мимесис. Термин получил свое название от растения «мимоза», которое при прикосновении как бы гримасничает, словно мим. «Мимесис»[31] предписывает: искусство обязано подражать природе, копировать реальность. Это понятие, введенное Аристотелем, получило второе рождение в эпоху Ренессанса: художники и писатели дорожили этим принципом, многие полагали, что их задача – просто «держать зеркало перед природой», по выражению шекспировского Гамлета. Сам Шекспир размышляет над вопросом мимесиса во всем своем творческом наследии, особенно в «Сонетах», где поразительно вдумчиво рассматриваются вопросы красоты, творения, порождения чего-либо или кого-либо, наследственности, идентичности и сходства, а в центре стоит заковыристый вопрос о копиях. Один из главных адресатов цикла, состоящего из 154 стихотворений, – неназванный юноша, чья красота со временем расцвела. Но, предостерегая о неизбежном моменте, когда «время губит все свои дары»[32], Шекспир убеждает юношу обзавестись потомством.
Лишь был бы ты собой! Но ведь, любимый,
Собой ты будешь, лишь покуда жив.
Так упреди конец неотвратимый,
Другому образ милый одолжив, —
Чтоб краткий срок владения земного
Пережила краса твоя, – чтоб ты
Собою стал за гранью смерти снова,
В потомке обретя свои черты.
Здесь, в сонете 13, Шекспир советует молодому другу (в которого явно влюблен сам) оставить потомство, но эта мысль выражена целым рядом метафор из области экономики: give («давать, дарить»), lease («одалживать») и issue (не только «потомок», но и «эмиссия ценных бумаг» и «эмитированная ценная бумага»), не говоря уже о таких метафорах, как semblance («подобие, копия») и form («форма, облик»).
Двумя сонетами раньше Шекспир употребляет метафору, отсылающую к труду ремесленника. В сонете 11 он говорит другу:
Природа как печать тебя ваяла,
Чтоб оттисков оставил ты немало.
Другими словами, обзавестись ребенком – словно оттиснуть печать, вырезанную ремесленником. В сонете 15 возникает другая метафора, уже из области садоводства:
Я в бой пойду за молодость твою:
Что Время отберет – я вновь привью.
В ботанике прививка, как хорошо известно Лакмусу, – процедура, при которой побег одного растения (часто умирающего) помещается в разрез на коре другого, чтобы – смотря как посмотреть – либо продолжить собственный рост, либо быть воспроизведенным благодаря растению-хозяину. Но здесь Шекспир применяет эту метафору к собственному искусству, а именно к процессу писательства – он хочет сказать: «Написав о тебе, я сумею воспроизвести твою красоту, и она будет цвести в стихотворении, пусть даже в твоем теле она блекнет. Мое искусство ничем не уступает по мастерству природе». Еще через три сонета Шекспир вновь заявляет: не стоит уподоблять свежего, красивого юношу летнему дню, так как летний день и само лето недолговечны,
…а у тебя не убывает день,
Не увядает солнечное лето.
И смертная тебя не скроет тень —
Ты будешь вечно жить в строках поэта.[33]
Стихотворение будет вечно воспроизводить этого юношу:
Среди живых ты будешь до тех пор,
Доколе дышит грудь и видит взор.
Теперь Шекспир говорит, что его искусность превосходит природу. Но цикл сонетов продолжается, и мысль усложняется. В сонете 53 Шекспир утверждает, что не только его поэзия идеально копирует красоту юноши, но и сам юноша копирует культуру и искусство, просто существуя в своем природном состоянии:
Вообразим Адониса портрет, —
С тобой он схож, как слепок твой дешевый.
Елене в древности дивился свет.
Ты – древнего искусства образ новый.[34]
Ты лучше, чем описание или подобие Адониса; если существует «слепок», «подделка», то моделью для них служил вовсе не Адонис, а ты. Другими словами, ты станешь оригиналом, вытеснив самое божество; то же самое касается портрета Елены Прекрасной (любопытно, что в образе друга Шекспир объединяет два прототипа – мужчину и женщину). Еще через пятнадцать сонетов Шекспир отбрасывает все искусные уловки и мастерство ради природы, которая stores («хранит, бережет»: экономическая метафора, разумеется) в лице героя ту же самую естественность, которую Шекспир ранее отверг как несовершенную по сравнению с его творчеством.
И бережет его природа данью чувству,
Чтоб показать красу фальшивому искусству.[35]
По-видимому, битва между природой и искусными уловками не завершена: то одна сторона, то другая берут верх. Но остается неизменным механизм, или «разменная монета», копирования. Каков критерий, практический метод, мерило достижений обеих сторон? Лучший мастер – тот, кто сумеет изготовить столь удачную копию, что она оживет и получит звание «оригинала». По сути, ставится вопрос о мастерстве и умении, а также об их противоположностях: неумелости, халтуре. False Art («фальшивое искусство»), poorly imitated («слабое подражание»). В «Отколотом ухе» процесс имитации и подмены сорвался по другой причине – оттого, что Бальтазар вздумал изготовить не одну копию, а две. Вот еще один абсолютно классический мотив (собственно, в мансарде Бальтазара так или иначе оживает вся древнегреческая эстетика) – мотив, который неразрывно связан с мимесисом, но одновременно является его худшим врагом. Это понятие «подобия» (simulacrum), введенное Платоном. Вообще-то для Платона все, что ни возьми, – копия: деревья, стулья, столы, вы и я – все это материальные копии божественных, безупречных оригиналов. Это бы еще ничего, но в «Софисте» Платон безмерно возмущается идеей «симулякра» (в русском переводе «призрачного подобия», «призрака»), ибо это – копия без оригинала, излишний фактор, искажающий всю симметрию соответствий между оригиналом и копией. Что совершил Бальтазар? Испортил механизм, запихнув посторонние предметы – симулякры – в его колеса. В «Отколотом ухе» почти с самого начала существует лишняя, ненужная копия.
Та же беда приключилась с Сарразином. Как мы выявили выше, мотив копирования, воспроизводства – стержень всей повести Бальзака. С Замбинеллы делают копию (статую), уже с этой статуи – копию в виде Адониса, с Адониса – копию в виде Эндимиона. Для сюжета не столь важно, удачно ли получились эти копии. Главное – нюанс, который для Сарразина обернулся катастрофой: скульптор копирует то, что и так уже копия. Замбинелла – оригинал скульптуры Сарразина и «подложного Адониса», написанного на холсте Виеном, – сама не что иное, как подделка, искусственная женщина, выдающая себя за настоящую. Симулякр, воплощенный в ней, с самого начала портит механизм мимесиса. Сарразин зрит в ее лице и теле чудеса, которым силились подражать резцы древнегреческих ваятелей, но не догадывается, что именно резцы и краска (если не сказать «ножи»), стараясь скопировать и объединить в одной фигуре условности античной классики, сделали «ее» лицо и тело такими, каковы они ныне.
С точки зрения Барта, эта «лишняя копия» обнажает перед нами суть реализма точно так же, как и вопрос о наполненности/пустоте. Очень важный аспект: в «Сарразине» мы наблюдаем, как реализм терпит банкротство из-за того самого действия – копирования, – которое столь высоко ценит. Истинная драма повести состоит в открытии, что реализм – «неудачное выражение», так как реализм «заключается вовсе не в копировании реального как такового, но в копировании его (живописной) копии». Более того, копировании копии с копии: Барт пишет, что художник-«реалист» «берет в качестве отправной точки своего дискурса вовсе не «реальность», но только – всегда и при всех условиях – «реальное», т. е. уже кем-то написанное – некий проспективный код, образованный анфиладой копий, теряющихся в бесконечной дали». Симулякры, угнездившиеся в цветах мимозы, точно искусственные червяки, ведут свою историю из далекого прошлого, вплоть до первого «непривитого» в ботаническом смысле поколения. Когда этот факт осознается, происходит то, что Барт на языке экономических метафор (свойственном и Деррида, и Шекспиру) называет «всеобщим крахом всех экономик»[36]: экономики языка, экономики грамматических родов, экономики тела, экономики денег. После этого краха «невоплотимым оказывается принцип справедливой эквивалентности, т. е. возможность репрезентировать».