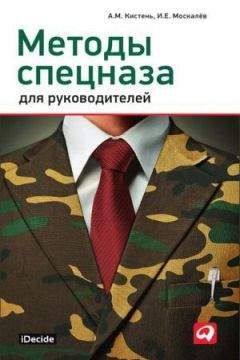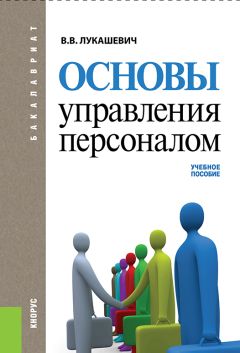Надежда Попова - Ведущий в погибель.
— Поверить не могу, что я все это слушаю, — пробормотал Курт тихо, с тоской покосившись на наполненный стакан в руке стрига; глоток-другой сейчас точно не помешал бы. — Бред… — выдохнул он, подперев ладонями голову, вдруг ставшую тяжелой, словно наполненная камнями бочка. — И что же, по-твоему, означает остановиться вовремя?
— Я объясню, — кивнул фон Вегерхоф, глядя на него с состраданием. — В академии ты наверняка постигал некие основы анатомии; верно? Сколько крови в человеческом теле? Если проводить соотношения с пивными кружками — пять. Сколько пива ты можешь выпить прежде, чем тебя затошнит? Не медленно, в течение вечера, под копченые колбаски, а — залпом? Бог с ним; пусть хотя бы воды. Сколько воды?.. Не больше двух кружек. Две с половиной, если сделаешь над собою усилие. Желудок попросту больше не вместит — физически. Разумеется, в обсуждаемом нами случае все несколько иначе, часть выпитого сразу расходится по собственным сосудам, и лишь малая доля остается в желудке, однако ведь, для того и пьется. И вот так досуха — это слишком. Только после очень длительной голодовки. Или сдуру.
— Почему отметается версия взрослого… или зрелого, или старого, или как там у вас? — ожесточенно выговорил Курт, вдруг осознав, что в данную минуту злится на Вегерхофа не за то, кем он является, а за то, что стриг спокойно попивает вино, в то время как ему самому позволено лишь обонять терпкие ароматы. — Почему не древняя особь вроде тебя — как ты сам сказал, с голодухи?
— Я не древняя особь, — возразил тот со своей неизменной полуусмешкой. — Я, если сравнивать, скорее особь зрелая. Не столь давно покинувшая пределы юности. Зрелая же особь, майстер инквизитор, как правило имеет на подхвате тех, кто доставит ему обед в постель, как и полагается ослабленному тяжелобольному. Но даже если слуг, друзей, помощников и прочих соучастников нет, опытный стриг не совершил бы такой ошибки, как оставление тела на виду. Даже если предположить, что от голода временно помутился разум, утратился самоконтроль, и жертва была убита так… неэстетично, после насыщения, когда нервы успокоятся, за собою все равно следует прибрать.
— Быть может, кто-то ему помешал? Прохожий припозднившийся, к примеру. Спугнул.
— Спугнуть стрига… это занятно, — хмыкнул фон Вегерхоф, неспешно отхлебывая из стакана, и, посерьезнев, тяжело вздохнул: — Господи Иисусе, все сначала… Вот почему я работал лишь с Эрнстом: он уже имеет опыт, уже знает подобные мелочи, тебе же все придется растолковывать снова.
— Если твои слова правда, — заметил Курт, — если ты действительно сотрудничаешь с нами — таких «снова» у тебя будет еще немало. Люди, знаешь ли, смертны.
— Все смертны, — отрезал тот. — Вопрос лишь в способах… А теперь к делу. Спугнуть возможно лишь, опять же, новичка, который пока не знает своих сил; а это — только подтверждение моей версии. Средств же избавиться от лишних глаз, случайно застукавших тебя над трупом, множество. Если нет желания убивать свидетеля, что проще всего, то можно попросту сделать шаг в сторону, в тень, и никто, пусть самый зоркий и чуткий, тебя не заметит; разумеется, он заметит тело, но это легко исправляется ударом по голове. Даже если успеет что-то увидеть — пускай, когда очнется, думает, что ему пригрезилось, а что нет.
— Хорошо, — допустил он. — Тогда такой вопрос — так, ради любопытства и общего развития: куда деть тело?
— В реку — проще всего, — пожал плечами фон Вегерхоф. — Благо большинство городов стоит на них. Даже если найдут после, труп будет в таком виде, что ни опознание, ни версии убийства не будут иметь смысла. Можно сжечь… Однако это удобно для тех, кто питается дома. Закопать, в конце концов.
— Тебе самому не противно? — неожиданно для себя самого вдруг прервал его Курт и прикусил язык, ожидая вспышки ярости, быть может, даже и того, что стриг, вспылив, плюнет на навязавшегося ему следователя и, махнув рукой на попытки завязать контакт, попросту встанет и уйдет прочь.
Фон Вегерхоф, однако, не двинулся с места, не впал в буйство, не приступил к гневной отповеди, даже не нахмурился — лишь прежняя усмешка стала чуть более заметной.
— Юность… — вздохнул он ностальгически, смерив собеседника взглядом почти отеческим, отчего внезапно стало не по себе. — Я не намерен оправдываться — во-первых, бессмысленно, во-вторых, порядком поднадоело. Я вполне трезво оцениваю собственный жизненный путь, однако же не имею тяги к публичному самоистязанию и не намерен быть смиренной мишенью для обвинительно-высокомерных острот, а посему — так, смеха ради — припомню одну историю, имевшую место быть лет так тринадцать-четырнадцать назад. История эта о маленьком мальчике, который, не колеблясь, убивал не желавших поделиться с ним своим добром; к одиннадцати годам в его активе было трое.
— Четверо, — сумрачно поправил Курт; стриг поморщился:
— Четвертый был таким же, как ты, малолетним преступником, и убит был, насколько мне известно, в честной драке за право жить вообще. Ты сам, часом, не флагеллант?.. Теперь этот мальчик носит Знак, отправляет на костер малефиков и относится к правонарушениям столь нетерпимо, что временами оторопь берет.
— Может быть, стоит мое жизнеописание переписать с буквицами и миниатюрами, — хмуро предположил Курт, — и расклеить на каждом доме в каждом городе? И без того оно ведомо всем, кому не лень.
— Не станем углубляться в прегрешения прошлого, — предложил фон Вегерхоф, и на сей раз он промолчал, ни словом не возразив. — Вернемся к делу. Итак, первый вывод: опытный — не стал бы так неаккуратно рвать артерии, не стал бы бросать тело на улице и не стал бы опустошать жертву. Подумай сам: если бы для полноценного питания всякий раз требовалось убивать, сколько утопленных трупов, пропавших без вести и погибших загадочным образом обнаруживалось бы ежегодно? Для того, чтобы быть в норме, достаточно одного раза в две недели, и требуется для этого не пять кружек, а одна, а то и половина. После такого события человек самое большее проспит лишних часа три и съест лишний кусок. Неприятно, признаю, однако не смертельно.
— А ты сам? — все же не сдержался он. — Ты — как часто это делаешь?
— Я вино пью, не заметил? — благодушно отозвался фон Вегерхоф. — Мясо ем. Рыбку. От хорошо приготовленного овощного блюда и доброго куска хлеба тоже не откажусь… Мне для того, чтобы жить, этого довольно.
— И много вас таких?
— Таких, как я, нет, — коротко ответил тот. — Есть те, кто не разучился принимать обычную пищу, кто сохранил к ней тягу и вкус, но не те, кому иного не требуется. Без крови они слабеют, чахнут и, в конце концов, впадают в спячку.
— А ты?
— Я теряю в скорости, в силе. В регенерации.
— Сколько откровенности, — заметил Курт; тот с улыбкой пожал плечами:
— Чем я рискую? Даже в таком состоянии я быстрее и сильнее тебя или любого другого. Сегодня ты не мог этого не заметить.
— Не хочешь ли ты сказать, что отказался от крови вовсе?
— Не вовсе, — согласился стриг, наполнив свой стакан снова. — Но сейчас — Великий пост. И для меня тоже.
— А когда он закончится? — не унимался Курт; тот пожал плечами:
— Сейчас я в деле. И слабостей себе позволить не могу; если случится противостоять кому-то из подобных мне — да, придется отойти от рыбной диеты. Но за мною не остается трупов, — напомнил фон Вегерхоф наставительно. — Как я только что упомянул — это лишнее. В таком случае, что тебя так раздражает?
— Неприятно думать о том, что сидящий рядом рассматривает тебя как снедь, — пояснил Курт с преувеличенно дружелюбной улыбкой. — Как ты попал в Конгрегацию? На ком-то погорел? Не в того зубы запустил? Чем тебя прижали?
— Это история длинная, майстер инквизитор, — выговорил тот, как ему показалось, с неудовольствием. — Однако для разговора по душам мы еще слишком мало знакомы; кроме того, не мое печальное прошлое сейчас имеет значение, а — наше не менее удручающее настоящее. Ты намереваешься слушать дальше, или тебя постоянно будет сносить в пространные и несвоевременные рассуждения?
— Не сказал бы, что они столь уж неуместны, — возразил он настойчиво. — Ты назвал меня запальчивым юнцом со склонностью к авантюрам; чем лучше такая…
— … тварь, — подсказал фон Вегерхоф снисходительно; он поджал губы.
— … личность, — докончил Курт с усилием, — которая живет среди говорящих кусков ветчины?
— Говорящая ветчина, — задумчиво вымолвил стриг, — это, скорее, к ликантропам.
— Мне отчего-то не так весело, — оборвал он хмуро. — Быть может, гордыня и относится к грехам, и даже грехам смертным, однако мое самолюбие решительно восстает против подобного ко мне отношения. Ergo, вопрос: чем надежнее меня личность, постоянно примеривающаяся ко мне и окружающим — как бы так посподручней…