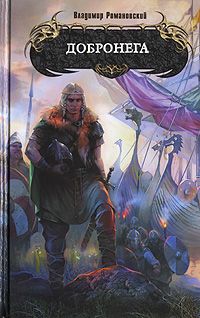Владимир Романовский - Хольмгард
Так и сделали. На тело, поневу и рубаху Певуньи налипло много травы, листьев, и грязи. Стащили поневу с лица. Глаза у Певуньи все так же были закрыты. Послушав дыхание, молочница убедилась, что оно все такое же ровное.
— Что же теперь? — спросила прачка.
— А что? Укрой ее, вон покрывало. И пойдем отсюда досель. Скоро муж ее вернется, может что-нибудь придумает в мыслях.
— Как-то нехорошо.
— Что ты предлагаешь?
— Может, дом поджечь? — сказала прачка. — Певунья все равно уж не жилица. Подожжем, а там мало ли что, например, сгорел дом, а Певунья вместе с ним.
— Нет, нельзя. Может, очнется еще, безутешная.
— Не очнется.
— Нет. За поджог нынче знаешь, что делают? Быть нам холопками, если кто дознается. А сопляк-то нас видел. Да и мужу ее огорчение. Так хоть дом-то останется.
— Ладно. Пойдем, а там будь что будет.
— Да уж. Пропали наши головушки бесталанные. Как есть пропали.
Выскочив на порог и оправляя волосы и поневы, женщины остановились, поняв, что опоздали.
— А куда это вы спешите так, соседки? — спросил их тиун Пакля, муж Певуньи. — Али не гостеприимна хозяйка, али не люб вам дом мой? Уж останьтесь, милые, сделайте мне честь. Как человек общественной значимости прошу вас об этом нижайше. Где же наша служанка, что же не встречает хозяина.
Молочница первая собралась с мыслями.
— За помощью бежали мы, хозяин.
— За помощью, — сообразила прачка.
— Кому же понадобилась помощь? — спросил Пакля благодушно. — Чем смогу, тем и помогу. Я ведь, изволите видеть, далеко не последний человек в городе. Уж княжескому тиуну, каковым являюсь, многое подвластно, многое. Это все знают. И сам посадник Константин мне, ежели попрошу, не откажет. Так какая вам помощь нужна, милые?
— А такая помощь, — сказала молочница, — что подруга наша, а жена твоя, тиун Пакля, давеча в обморок сверзилась в саду.
— Именно, в обморок, — подтвердила прачка. — В саду.
— И не разговаривает, и очи не открывает, — добавила молочница.
— Совсем не открывает, — подтвердила прачка. — Лежит с закрытыми.
— Это вы шутите так? — спросил тиун, растерянно улыбаясь.
— Нет, — заверила его молочница.
— В саду она лежит?
— Нет. Мы ее в дом перенесли.
— Чтоб ее не украл никто, пока мы за помощью бегаем.
Тиун вошел в дом.
— А Сушка где, холопка наша? — спросил он, идя к спальне.
— А не знаем, тиун.
— Не знаем, кормилец.
Войдя в спальню и увидев жену, лежащую на ложе, с одной ногой, торчащей из-под покрывала, Тиун слегка оторопел, крякнул, и приблизился. Ноздри Певуньи раздувались, грудь вздымалась.
— Певунья, — позвал тиун, садясь рядом. — Эй, Певунья. А что это у нее дрянь всякая в волосах? — спросил он, оборачиваясь к женщинам.
— Не знаем, — сказала молочница искренне. — Вроде только что не было.
Прачка только мотнула головой.
Тиун приложил ладонь ко лбу жены. Лоб был горячий, а что из этого следовало — неизвестно. Он попробовал потрясти Певунью за плечо. Потряс. Никакой реакции.
— Может, ей воды на лицо-то полить, вот эдак? — предложила прачка, показывая, как надо лить воду на лицо.
— Зачем? — спросил тиун.
— Может, будет лучше.
— Нет, — подумав, сказал тиун. — По щеке не треснуть ли?
— Уж пробовали, — призналась прачка.
Молочница въехала ей локтем в бок, но было поздно.
— И что же? — спросил тиун.
— Ничего. Как видишь.
— Ладно, — сказал Пряха. — Вы давеча за лекарем бежали?
— За ним, тиун. За лекарем. Как же без лекаря. Без лекаря нельзя.
— За каким же? За Стожем или за Трувором?
— За Трувором.
— Хорошо. Бегите. Приведите Трувора.
Женщины переглянулись, повернулись, и вышли.
— А где этот Трувор живет, ты знаешь? — спросила прачка, когда они оказались на улице.
— Нет, — сказала молочница. — Ну, ничего, расспросим народ да найдем.
Тиун меж тем сделал было еще одну попытку растолкать жену, но тут его внимание привлекли какие-то передвижения и шумы в погребе, примыкающем к стене дома. Нахмурясь, Пакля поднялся и вышел в сад, к погребу. В погребе что-то грохотало и пищало. Не будучи по натуре суеверным, Пакля смело шагнул к погребу и отодвинул засов.
— Хо-хо! — залихватски приветствовали его из погреба. — Йех!
Он едва успел уклониться. Кувшин пролетел возле его головы и упал на траву. Затем пришлось уклоняться от летящего окорока.
— Эй! — потребовал тиун. — Кто тут? Прекрати!
— Ага! Хозяин пришел! А вот мы его бжевакой!
От бжеваки тиун увернуться не успел. Липкое сладкое месиво ударило ему в лицо. Отплевываясь, он отступил от двери.
— Сушка, ты, что ли? А выходи-ка на свет сейчас же!
— Пошел в хвиту!
Стерев рукавом бжеваку, Пакля быстро вошел в погреб и схватил Сушку за руку. Она попыталась свободной рукой расцарапать ему что-нибудь, но он быстро пошел к выходу, таща ее за собой, и это ей помешало.
Выйдя на свет, оба остановились. Сушка была пьяна в дым, улыбалась глупо и нагло. В одной рубахе — поневу она сняла в погребе зачем-то — встав перед тиуном, холопка подбоченилась, придала своим плохо повинующимся ей чертам подобие презрительного выражения, искривила пухлые губы, и сказала:
— Ну ты!…
— Иди в дом, — тихо и строго сказал тиун Пакля.
— Куда хочу, туда и пойду, — ответили ему. — А в следующий раз ко мне полезешь, я тебе хвой отрежу. А то супруга твоя пучеаресельная возмущается и безвинных женщин запирает в потьмах таврических. Тфу.
Она плюнула в него. Он успел отскочить.
— Ты ж не плюйся мне тут! — сказал он грозно. — Я человек общественной значимости! Как смеешь!
— Колдунья супруга твоя и хорла, — закричала очень громко Сушка. — Жирная хорла. И пьяница.
Схватив ее за предплечье, Пакля поволок Сушку к дому.
— Не толкайся, аспид! — скандально закричала она. — Ишь какой, толкается.
Она села на землю и икнула.
— Ой, — сказала Сушка. — Ха.
Он попытался снова ее схватить, но она брыкалась, падала на спину, и лягалась. Он хотел было взять ее за волосы, но она подняла такой визг, что Пакля испугался, что сейчас к нему в сад сбежится половина города. Не зная, что делать, он умылся около колодца, поглядывая на сидящую на траве Сушку, и вернулся в дом. Когда некоторое время спустя он снова вышел в сад, Сушки нигде не было видно.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
Все ставни распахнуты настежь.
По периметру Валхаллы горели факелы и хитрые светильники с таинственной смесью, дающей в дюжину раз больше света, чем обычное масло — изобретение местного дьякона. Злые языки поговаривали, что дьякон украл рецепт смеси из архива убитого волхва Семижена, на что крещеная часть верхнесосенного двора резонно возражала — мол, доказательств того, чтобы хотя бы один из рецептов Семижена когда-либо был успешно использован хотя бы самим Семиженом — нет, равно как и нет доказательств, что у Семижена вообще были какие-либо рецепты, в то время как дьякон прибыл из Александрии три года назад — в самый разгар новых экспериментов с «греческим огнем» в египетской столице. Время было — за полночь, а нарядная, веселая, пьющая толпа расходиться не собиралась. Во-первых, было весело, а во-вторых, все ждали Валко — восходящую звезду гуслино-былинного жанра, польских кровей и псковского происхождения. Помимо собственно сочинительских и певческих талантов, Валко-поляк, выросший в самом в то время грамотном городе Севера, чуть ли не первый и единственный начал записывать, а затем и редактировать, собственные тексты, что благотворно сказалось на качестве его выступлений. Сгладились и ушли корявости, длинноты, и непомерно скучные, занудливые пассажи, всегда сопутствующие импровизации. Выступление Валко планировалось на два часа пополуночи.
Певцы, гусляры и скоморохи, выступавшие в те вечер и ночь, прекрасно понимали, что призваны просто заполнить время до прибытия знаменитости, и ненавидели эту знаменитость люто.
Наступил черед особого номера, который одна из скоморошьих трупп готовила весь предыдущий месяц — миниатюра с плясками. Уже накануне выступления в труппе начался разлад и разнобой. Оба гусляра поссорились между собой и, отдельно, с хозяином труппы, и уехали в Ладогу. Хозяину пришлось срочно договариваться с постоянными гуслярами Валхаллы, которые артачились и отнекивались, но все же согласились провести одну репетицию. На то, чтобы в ходе оной репетиции они запомнили, что и когда нужно играть, когда вступать, когда умолкать, особо надеяться не приходилось.
Затем поссорились двое главных — Ларисса и Бревель.
Ларисса родилась в Новгороде. Побочная дочь греческого воина, сопровождавшего делегацию дьяков, и новгородской высокородной замужней женщины, воспитывалась она у неимущих родственников. Отец навещал ее изредка в детстве. Имел он склонность к театру и умудрился в несколько кратковременных визитов привить дочери некоторые навыки и пристрастия. В возрасте десяти лет ее взяли на пробу известные плясуны, и многому научили. Переменив несколько скоморошьих трупп, неуживчивая Ларисса решила, что не место ей в этой дикой северной дыре, этом Новгороде-Хольмгарде, ну его в пень — и, соблазнив какого-то варанга, уехала с ним в Киев. Блистательная столица Руси обошлась с провинциальной певицей-плясуньей по обыкновению жестоко. Промыкавшись несколько лет на вторых и третьих ролях в киевских скоморошьих труппах, Ларисса, побывав в Константинополе, где она из-за незнания греческого не нашла себе применения (все места экзотических, на непонятных языках поющих, артистов были уже заняты, в основном киевлянами и киевлянками, бегло говорящими по-гречески), Ларисса вернулась в Новгород, волоча за собой шлейф атмосферы двух блистательных столиц. Место в лучшей скоморошьей труппе она получила без труда, и вскоре стала в ней главной певицей-плясуньей. Коллег своих она презирала, местных зрителей не считала достаточно подготовленными для восприятия ее искусства, и вследствие этого никогда не волновалась перед выступлением. Бревеля, второго главного, она ненавидела, не признавая за ним ни умения, ни таланта.