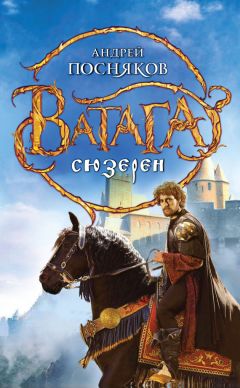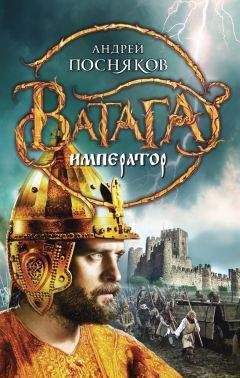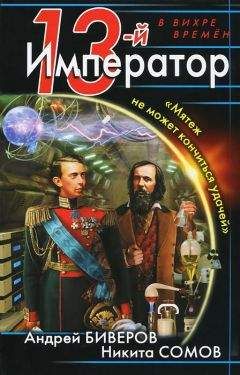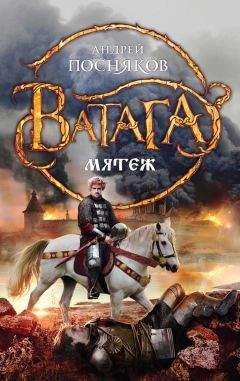Ватага. Император: Император. Освободитель. Сюзерен. Мятеж - Прозоров Александр Дмитриевич
Судьба покуда хранила посланного неугомонной заозерской княгинюшкой убийцу – Осипа Чистобоя. Не привлекая ничьего внимания, он спокойно добрался до Москвы с попутным обозом, переночевал на постоялом дворе кривобокого Зосимы, что на Неглинной, а с утра отправился шататься по местным церквям да по торгу, где среди груды совершенно вздорных сплетен и слухов привычно отобрал сведения, хоть как-то касавшиеся женской Вознесенской обители. Художников ищут, ага… Богомазов! Так он, Осип-то, и есть богомаз. Самый лучший!
– Храм Покрова на Нерли знаете?
– Ну, – недоверчиво кивала монастырская ключница, матушка Степанида, вырвавшаяся с подводой на торг по каким-то хозяйственным надобностям.
– Так это ж я его расписал, – подбоченился Чистобой. – Не один, конечно… вместе с Ондрюшей Рублевым. А вот еще София Новгородская – так мне там Феофан Грек помогал. Слыхала, небось, матушка, про Феофана Грека?
Ключница прищурилась:
– Чтой-то ни кистей при те не видать, ни красок.
– Так на постоялом дворе все, не с собой же таскати.
– Лан-но! – подумав, матушка Степанида махнула рукою. – Не ты первый, не ты последний, мил человеце… Подходи завтра в мирскую, на Вознесения, к нам. Инокине Марфе глянешься – будешь расписывать, подновляти… Ой, работы там мно-ого.
– Много не мало! Приду.
Осип явился, как звали – сразу после заутрени уже стоял в воротах у мирской избы, весь из себя прикинутый: в юфтевых сапогах, в широкой, забрызганной красками поддеве, в лихо сдвинутой на левое ухо шапке. Ну, настоящий художник! Тем более при себе имел целый колчан кистей да изрядных размеров сундук с красками. Сундук, надрываясь, тащил на спине нанятый специально для этой цели мальчишка. Упарился, бедолага, но ничего, донес поклажу… за что и получил затертое медное пуло:
– На те, отроче.
– Эй, эй, дядько! – парнишка жалобно скривился. – Прибавил бы, сундук-то тяжел!
– Бог подаст, – входя в людскую, отмахнулся художник. – Ступай, отроче, с миром.
– А…
Ворота перед самым носом незадачливого парня захлопнулись, и скуповатый на деньгу богомаз, перекрестясь, поклонился стражам. Именно так – стражам – обитель-то, со времен водворения в нее инокини Марфы, охранялась, как не всякий кремль! Правда, сейчас уже стало похуже, не так, как было еще лет пять-шесть назад, уже и стражники сюда назначались старые, свое отслужившие, так, больше для виду. Однако кое-что – коли не ленились – проверить могли.
– Эт что у тя, паря? Стрелы, что ль?
– Да какие стрелы? Кисти, иконы писать.
– А похожи на стрелы… Эта вон палчина – вообще как копье!
– Да тонковата она для копья… Я ж…
– Знаем, что богомаз. Видим, что тонковата. Шутим, ага! В сундуке-то у тя чего? Краски… Так крышку-то отвори! Глянем… Ага… Порошки какие-то…
– Эти-то порошки – краски и есть. Их растворять надо, на яичном желтке размешивать.
– Иди ты – на яичном! Это сколько ж яиц надобно!
Помурыжили стражи вольного художника Осипа Чистобоя, чего уж, да все ж в людскую пустили, а оттуда и в церкву Вознесенскую провели. Хорошая церковь – каменная, высокая, а изнутри аж вся светится, и слева от алтаря – дощатые лесочки.
– С той стороны и начнешь, паря. А завтра с утра инокиня Марфа придет, глянет… Коли все хорошо – честь тебе и хвала, а коли плохо, так выгонит.
– Ага, ага… с утра, значит?
– Может и вечером заявиться, смотри – глаз у нее строгий.
Чистобой готовился к порученному делу быстро, но и без ненужной спешки и мельтешения: не спеша вытащил из кушака тетиву, согнул «палку», быстро приведя в боевое положение добрый клееный лук. Приготовил и стрелы – кисти, разложил все на лесах, и уже после этого принялся растирать краски – все же нужно было играть роль богомаза, вот Осип и играл, да вжился в роль без обмана, точно: красочки размешав, махнул кистью по облупившемуся нимбу какого-то святого, затем, вдруг вспомнив, протянул досочку к узкому оконцу, выпустил наружу веревку – радостно за окном птички пели, воробьишки чирикали… Послушал малость – и снова за краски, и опять заплясала в руках кисть, любо-дорого посмотреть… по крайней мере, самому Чистобою именно так и казалось. Увлекся, однако, головы не терял, все вниз, на двери посматривал – вдруг да появится инокиня Марфа? Вот для нее и стрела!
Посматривал, да просмотрел! Вовсе не оттуда бывшая княгиня явилась, совсем с другой стороны – слева от алтаря тоже вход имелся, да только лиходей-то его не ведал. А надо было бы!
Ближе к алтарю, у амвона, давно уже стояла Софья, да не одна, с послушницей верной Глашкой. На богомаза глядела, да щурилась – ишь, как малюет-то!
– Ох, преподобная матушка, не богомаз он! – вздохнув, неожиданно прошептала девчонка.
Инокиня недобро вскинула бровь – поясни, мол!
– Богомазы разве ж так кисти держат? Видала я прошлолетось Рублева с артелью. Кисть по-особому держат, как птицу – не задушить, не выпустить, а этот… Эва, схватил в кулачище – не-ет… не художник это, а незнамо кто!
– Не художник, говоришь… – монахиня призадумалась, высохшее, изборожденное морщинами лицо ее скривилось, словно от зубной боли. – А ну-ка, Глашка, беги живенько, кликни стражу…
– Угу!
Громче, чем надо бы, воскликнула девка, да, выбегая, дверью потайной хлопнула…
Осип тут же обернулся, да, увидев дернувшуюся в полутьме фигуру в монашеской рясе, живенько схватил лук, стрелу… Одну за другой пять штук успел выпустить, да ведь Софья-то тоже не дура, быстро сообразила, что к чему, да за алтарем спряталась – позабыв про сан, прыгнула, аки кошка, словно простоволосая бесстыдница-девка в реку нырнула…
А стрелы-то – одна за другой – в алтарь! Ткнулись, задрожали злобно… промедли инокиня хоть миг – словила бы стрелу сердцем… А так – упаслась, спасибо послушнице, Глашке!
Понабежали тотчас же стражники, загомонили – вон он, вон, хватайте! Трое зачали стрелы метать, четверо на леса полезли… только злодей-то их дожидаться не стал: расставив, словно канатоходец, руки, пробежал по дощечке к окну, протиснулся, да по веревочке – вниз, да так ловко – ушел бы, как бы не шальная стрела… Попали все ж, стражнички, угодили, да, подбежав, принялись спорить – чья стрела-то?
– Моя, моя, я ж последним бил!
– А я – первым!
– Да ты и с полста шагов в телегу не попадешь, а тута вся сотня!
– Я не попаду?! Не, вы слыхали?
Лишь десятник, подойдя, хмуро склонился над мертвым телом, перевернул… и непонятливо скривился:
– Кончай спорить, ироды. Стрела – из самострела пущена! А у кого из вас самострел?
Стражники смущенно переглянулись, и десятник, погрозив кулаком, быстро нашел им дело:
– А ну, обыскать здесь все! Сообщника с самострелом ищите, хватайте!
Ага… хватайте, как же! Было бы кого хватать.
Второй посланец молодой заозерской княгини, Трофим, первым делом выбросил арбалет в пруд, а уж потом выбрался их кусточков, да к церквям, да на площадь красную – так вот, средь богомольцев, и затерялся, ищи теперь!
С искаженным от пережитого страха лицом выбралась из-за алтаря инокиня Марфа. Рясу от пыли отряхнув, клобук нахлобучила, поплотней плат черный подвязала, губы сжала – вышла на улицу: неприступна, сурова, не скажешь, что ведь только что, аки чадушка непотребная, прыгала!
Завидев мертвого «богомаза», Софья едва сдержалась, чтобы не выругаться, потом, чуть подумав, рукой махнула да перекрестилась, молитву Господу вознеся. Даже поблагодарила стражников:
– Жаль, конечно, что живым не взяли… Ну да ладно, хоть так. Слава Богу – не убил, не успел. Вы с чего так быстро явились? Глашка проворно бегает?
– Не, матушка, – заулыбался десятник. – Глашку-то мы по пути встретили. К тебе как раз и шли, докладать о гостях новых.
– Что за гости? – инокиня вскинула голову.
– Двое каких-то… Велели передать – тот, кого просила, их и прислал.
– Тот, кого просила? – монахиня покусала губы… и вдруг просияла ликом. – А! Наконец-то явились. Что ж, надо сказать – вовремя! Где они сейчас?