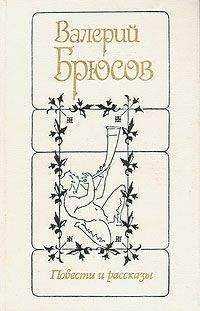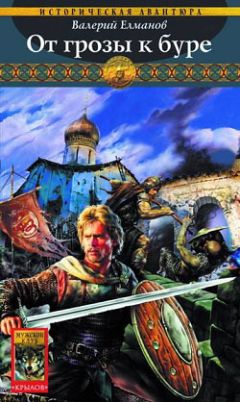Валерий Елманов - Княжья доля
Константин как раз подъезжал к ее избе, сопровождаемый верным Епифаном, и уже спешился у жиденького покосившегося плетня, как дверь низенькой избушки растворилась и из глуби ее недр чуть ли не под копыта лошадям кубарем выкатился какой-то худенький коротенький мужичонка в разодранной до пупа белой рубахе. Костя поначалу даже не сообразил, в чем тут дело, и первым правильный вывод сделал Епифан.
Не дожидаясь княжеских указаний, он молча приступил к активным действиям. Ухватив тиуна одной рукой за шиворот, он приподнял его до уровня своих глаз, так что ножки низкорослого мужичка в нарядных щегольских темно-синих сафьяновых сапогах беспомощно заболтались в воздухе, и с маху приложил к его устам свой могучий кулак. При этом вырваться бедному тиуну он не давал, и тому оставалось лишь судорожно извиваться и взвизгивать после каждого нового удара, пока наконец он не отлетел прямо на плетень, который незамедлительно рухнул.
– Ишь какая зараза, – удивленно пробасил Епифан, после чего вновь приподнял беспомощно болтавшегося в воздухе тиуна, зацепившегося вдобавок одной ногой за плетень, и, глядя на его окровавленную рожу, задумчиво произнес: – Урод какой, а туда же. Может, еще ему прибавить... для ума, а, княже?
Константин пренебрежительно махнул рукой, и тот оставил мужичонку в покое, но выводы тиун сделал правильные и больше не только ни разу не домогался Купавы, но, напротив, по собственному почину собрав мужиков, отгрохал ей дом и обращался к ней, не иначе как пару-тройку раз униженно поклонившись.
Уже после первого приезда князя Купава, вначале не поверившая до конца, что ее вовсе не бросают, расцвела пышным цветом. В последующие две недели, когда Константин ухитрился прикатить к ней еще пару раз, ему снова и снова приходилось удивляться, как любовь, особенно когда она ответная и счастливая, может преобразить женщину. Каждый раз во время своих визитов в деревню при виде ее он не переставал восторгаться – казалось бы, дальше некуда хорошеть, ан, поди ж, оказалось, что есть. Восторг и нежность, любовь и жажда обладания телом любимого, да, в конце концов, просто неописуемая радость от очередной встречи, словом, все это не просто горело в глазах Купавы – подыхало как огромное зарево, и Константин почти физически ощущал, как сгорает в нем без остатка.
А встречи эти сумел организовать пятнадцатилетний сынишка подружки Купавы – поварихи Любославы. Малец был очень похож на свою мамашу, которая несколько страдала излишним весом, а проще говоря, была необъятна и неохватна. Однако напоминал юный Любомир ее лишь внешне, своими габаритами, ну и еще добродушным характером, зато шустер был до ужаса и чертовски сообразителен. А еще Любомир умел мастерски изображать различных людей, в точности передавая только им одним присущие жесты, походку, поведение, манеру говорить и мастерски копируя даже сам голос. За то и пострадал. В то время, когда Фекла вышла на крыльцо, она успела увидеть, как внизу, во дворе, Любомир в очередной раз по просьбе многочисленной дворни кого-то представляет, а приглядевшись, к огромному ужасу и возмущению, узнала себя.
В сообразительности же его Константин вскоре успел убедиться на практике, когда тот, благодарный донельзя за благополучное высвобождение из поруба и избавление от неминуемой жестокой порки, уже несколько раз сумел устроить так, чтобы князь под самыми что ни на есть благовидными предлогами навестил свою любимую. То с жалобой на того самого тиуна к нему приходили мужики из Березовки и приходилось ехать туда, дабы разобраться на месте. То возникал спор с соседним сельцом из-за удобного покоса, и ходоки из обеих деревень чуть ли не в драку кидались друг на друга на княжьем подворье. То, дескать, коза разродилась чудищем двухголовым. Одним словом, фантазия у парня не отдыхала ни минуты. В ответ же на вопросы Константина, как у него все это так ловко получается, Любомир, смущенно потупив глаза в землю, просил дозволения не отвечать. О том, что мальчишка придумает на следующий раз, Константин уже и не спрашивал, уверовав в редкое дарование хлопца, который одной стрелой убивал сразу двух зайцев: пособлял князю и одновременно пакостил ненавистной княгине Фекле.
В свободное же время Любомир частенько, открывши рот и затаив дыхание, слушал байки одного из княжеских дружинников, вечно улыбающегося и смешливого Константина. Его мать родила сынишку в один день с женой князя Владимира, хотя и на шесть-семь лет позже, и счастливый отец, не мудрствуя лукаво, окрестил своего запоздалого первенца точно так же, как и князь-отец. Малец вырос и, пойдя по стопам родителя, попал с годами в княжью дружину. Очень скоро он приобрел не только славу одного из первых удальцов, но и безудержного враля, да такого, что сам Мюнхгаузен пожелтел бы от зависти и злости, послушав хоть с полчаса речи оного дружинника. Впрочем, барон еще не родился и слушать его никак не мог, зато сын поварихи, с детства мечтающий приобщиться к ратному делу, ловил каждое его слово, причем принимал все россказни и байки за чистую монету, от начала до конца. Как уживалась в подростке иезуитская хитрость с таким детским простодушием, Константин анализировать не пытался. А зачем? Достаточно было того, что оба эти качества не несли в себе ничего плохого, и порою, напротив, давали немалое благо, ну хотя бы в организации тех же встреч с Купавой.
Однако чистый горизонт безоблачной жизни постепенно стал заполняться тяжелыми грозовыми тучами, причем ветер дул прямиком из соседней стольной Рязани, а нагоняла его княгиня Фекла. Трудно сказать, когда именно она успела съездить и пожаловаться престарелому епископу Арсению на греховное поведение своего супруга, закостенелого нарушителя одной из основных заповедей Господних, но то, что факт сей имел место, – это было железно. Иначе тот, свершая вояж по всей Рязанщине, не прислал бы гонца к князю Константину.
Власть духовная обставила все достаточно деликатно. В присланной грамотке епископ поначалу очень долго сокрушался о тяжкой болезни, коя постигла князя, затем не менее долго заверял, что будет молиться за его выздоровление, и сокрушался, что тот не сможет лично приехать к нему в Рязань, дабы разрешить кое-какие спорные вопросы относительно сельца близ Ольгова. Сельцо оное было подарено Константином Церкви и в то же время им же пожаловано боярину Житобуду. Епископ жаловался, что церковный тиун уже не раз был бит верными боярскими холопами, а подати да сборы и вовсе нет у него никакой возможности сбирать. После чего последовал тонкий намек на то, что Божье имущество отнимать у служителей Церкви негоже, и надежда на то, что князь как истинный христианин прислушается к отеческим увещеваниям Арсения, к коим любезно присоединяется и его, Константина, старший брат Глеб.
Но это все было прелюдией к главной теме. Не иначе как по проискам все той же зловредной Феклы, епископ потребовал, дабы князь немедля прислал к нему в Ольгов, где он сейчас пребывает, девку-лекарку, прозываемую Доброгневой, ибо ходят о ней недобрые слухи. Дескать, девица оная не Божьим соизволением, а дьявольскими кознями страждущих ведает, стало быть, надлежит ей учинить строгий допрос с пристрастием.
Ну а в довесок к этому звал к себе Арсений на исповедь бывшую дворовую холопку Купаву. Словом, хорошего в письме оказалось мало. Однако деваться было некуда, и посему Константин, послав Епифана с предупреждением, чтоб его любимая в Ольгове раньше завтрашнего вечера не появлялась, почесав в затылке, приказал готовиться к выезду. Отправлять к церковникам одну Доброгневу было равносильным засунуть девчонку в клетку с голодным тигром. Конечно, вроде бы даже на Западе костры еще не полыхали, не говоря уж о Руси святой, но монастырские подземелья были не слаще.
Дабы не трястись по проселочной дороге, было решено принять предложение Епифана и двинуться Окой, благо что и Ольгов, как и сам Ожск, стояли оба на ней. О том, что рана на ноге уже неплохо заросла, знала одна ведьмачка, а больше и знать никому не надо. Рассудив таким образом, Константин решил почти весь путь к епископу проделать в носилках и лишь за несколько шагов до отца Арсения, кривясь от якобы страшной нестерпимой боли, слезть с них и, жутко хромая, проковылять пару-тройку шажков. Авось епископ смягчится сердцем.
Сказано – сделано, и наутро, когда солнышко только-только взошло, его уже понесли в сопровождении дружинников, Доброгневы, ее помощницы Марфуши и юного и тщедушного, то и дело крестившегося монаха к ладье. Посудина по своим габаритам смахивала на катер, только с более круто изогнутыми бортами и высоко задранным носом, который увенчивался искусно вырезанной птичьей головой с полуоткрытым клювом. Кого именно изобразил безымянный резчик – непонятно. То ли лебедь, то ли утка, то ли гусь. Словом, что-то мирное и невоинственное.
Внутри ладьи было, несмотря на всю ее средневековость, довольно-таки уютно, особенно на верхней палубе, где Константин и возлежал у самой кормы, заботливо укутанный с головы до пят Доброгневой, которая в то утро была непривычно молчалива.