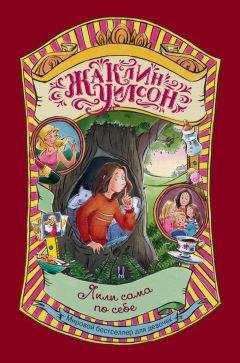Мушкетерка - Лэйнофф Лили
Спустя несколько дней на одной из тренировок я выронила шпагу, на глаза навернулись слезы отчаяния и боли.
— Но я же не левша! Зачем мне отрабатывать все шаги на другую сторону?
Мадам де Тревиль, которая чуть в стороне работала с Портией над комбинированной атакой, окинула меня взглядом. Портия, прибывшая лишь на пару месяцев раньше меня, была самой неопытной в фехтовании, но, смотря на нее, я бы так не сказала. В первые же секунды схватки она производила устрашающее впечатление — благодаря яростному натиску она казалась крупнее, чем была на самом деле, я сразу же поняла это во время наших тренировочных боев. Однако потом она начинала колебаться и открывалась для стремительной контратаки. А противник только этого и ждал.
— Не желаю больше слушать твои оправдания, — ответила мне мадам де Тревиль.
— Что значит «оправдания»? — В моей груди вспыхнуло пламя гнева.
— Я предупреждала, что буду требовать больше, чем от тебя требовали когда-либо раньше. Я не терплю нытья и жалоб, а тем более лени.
Последнее слово резануло меня, словно наточенный клинок.
— Я не ленюсь!
Ее глаза сверкнули:
— Что ты сказала?
Я боролась с желанием взять свои слова назад, спрятаться в свою раковину. Вместо этого я сглотнула и выпрямила спину:
— Я не ленюсь.
На лице мадам де Тревиль было написано неудовольствие.
— Твоего мнения я не спрашиваю.
Какая-то часть меня не могла поверить, что я начну спорить, ведь на кону стояла благосклонность нашей наставницы, но во мне уже несколько недель тлело возмущение.
— Я согласна одеваться в дорогие платья, согласна тренироваться до кровавых мозолей и одеревеневших ладоней, согласна высиживать уроки этикета, тайной слежки, подслушивания и соблазнения, я все согласна вытерпеть. Но только не обвинения в лени. Я не ленюсь! — Моя грудь тяжело вздымалась, словно я только что дралась на дуэли. — Так что? — переспросила я.
Портия, стоявшая за спиной у мадам де Тревиль, одобрительно кивнула мне.
Наша наставница поцокала языком. Потерла переносицу. На секунду я испугалась, что зашла слишком далеко. Но потом она сказала:
— Я не обязана тебе отвечать, запомни это. Но после такого спектакля… — Она наморщила нос. — Если это для тебя так важно, так и быть. Посмотри в зеркало.
Мадам де Тревиль указала на высокое зеркало, установленное на колесиках, чтобы мы могли разместить его в любом месте и с его помощью контролировать свою позицию. Арья часто им пользовалась, хотя не то чтобы ей это было нужно: ее манера фехтования была подобна воде, бегущей по каналу, — плавная, грациозная и на вид совершенно непринужденная, хотя каждое движение было рассчитано с точностью до миллиметра.
Изо всех сил стараясь не дуться, я расположилась перед зеркалом и приняла боевую стойку.
— Просто встань прямо, — велела мадам. Вздернув брови, я выпрямила ноги, но правую руку не опускала на случай, если мне понадобиться поймать равновесие. Мадам де Тревиль подошла ко мне со шпагой в руке. Портия, наблюдавшая за нами из дальнего правого угла комнаты, покачала головой, когда наши взгляды встретились. — Ты себя видишь? — спросила наставница, подойдя почти вплотную. Ее шаги были так бесшумны, что ее приближение сложно было заметить.
— Да, мадам. — Долгие годы, глядя на себя в зеркало, я знала, что вижу совсем не то, что видят остальные. Я видела темные волосы, темные глаза, крепко сбитую фигуру, а остальные видели всего лишь больную девочку. Девочку, которая падает в обморок. Странную девочку. Но те, кого я встречу в будущем, не знают моей истории, они увидят меня именно такой, какой я отражаюсь в этом зеркале: выше, чем мне казалось. Волосы на затылке вьются, по скулам до самых ушей разливается яркий румянец.
Мадам де Тревиль ударила меня по ноге своей затупленной тренировочной шпагой — плоской стороной, но позже наверняка появится синяк.
— Твоя правая нога работает сильнее, чем левая. Видишь, как распределен вес? Если правая сторона работает больше, когда ты не фехтуешь, это чревато травмой.
Я прикусила язык и сделала, как было велено. После целого часа упорной тренировки я почувствовала, что мышцы левой ноги горят огнем. Я могла думать только о том, чтобы без сил упасть в кровать… но после обеда меня ждали другие занятия. Так что я переоделась и побрела на кухню, надеясь съесть яблоко и, может быть, немного сыра, потому что большее мой желудок не был готов принять. К тому времени, как я закончила трапезу, у меня болело все. Место между большим и указательным пальцами пульсировало, бедра горели, мышцы живота стонали, ступни сводило… у меня болели даже зубы!
Анри, появившись на кухне, направился прямиком к приставному столику, схватил с него две булочки, одну с наслаждением надкусил, а другую положил в сумку. Когда я кашлянула, он неуклюже повернулся, и его лицо приняло такой яркий оттенок алого, какой мне еще не доводилось наблюдать. Давясь, он торопливо проглотил кусок булки.
— Мадемуазель де Батц! Простите, я вас не заметил! — Анри почти каждый день мелькал в доме: забирал и доставлял корреспонденцию, бегал по поручениям мадам де Тревиль — я диву давалась, как он все успевает со своей учебой. Я знала, что у него есть своя комната на первом этаже. Мадам де Тревиль однажды сказала что-то о приличиях и о том, что в доме живут четыре молодые девушки, однако из всех домочадцев Анри был самым безобидным.
— Месье Анри, — отозвалась я. Называть его месье де Тревиль было бы чересчур странно. — Ваша тетя сейчас беседует с Арьей, она…
— На самом деле я искал вас!
Несмотря на все мои усилия, я ощутила, как вспыхнули щеки. Даже боль ненадолго утихла.
— Меня? Но зачем?
Анри полез в сумку. Внутри царил хаос: помявшаяся булочка, огрызки перьев, кусочки угля, пропорциональный циркуль для замеров, книги по философии, которые, по его словам, он читал, чтобы практиковать английский: Томас Гоббс, Фрэнсис Бэкон…
Анри на мгновение замер, держа в руках свиток бумаги, его лицо осветила застенчивая улыбка.
— Молодые провинциальные картографы всегда присылают Сансону свои работы в надежде, что он замолвит за них словечко перед другими мастерами в Париже, а если повезет, то и возьмет их в подмастерья. Он сваливает плоды их усилий в кучу, которую никогда не удосуживается разобрать, ведь какое ему дело до их труда, — усмехнулся он, — однако поглядите, что я нашел.
Я развернула свиток. У меня ушло несколько секунд на то, чтобы узнать переплетение улиц и лес, подступающий к границам деревни, и поля, переходящие одно в другое по всему листу. Края свитка были украшены бордюром из местных растений. Я угадала очертания подсолнуха. Люпьяк. Дом.
Мне не хотелось расплакаться прямо перед Анри. Нельзя показывать ему свои слезы. Я повторяла это про себя раз за разом, хотя глаза щипало.
— Это очень красиво, но я не могу ее принять. Она мне не принадлежит.
— Но вы должны, — настаивал Анри. — Тетя рассказала мне, как далеко от дома вы оказались. И мы решили сделать дом чуть ближе к вам. Как я уже сказал, Сансону она не нужна.
Его взволнованное лицо расплылось, потому что на глаза мне все-таки навернулись слезы. Секунду спустя Анри протянул мне платок. Что же за проклятие на меня свалилось — плакать перед каждым юношей, с которым я знакомлюсь?
— Спасибо, не нужно. Я в порядке.
— Нам всем иногда надо поплакать. — Его взгляд задержался на моих руках, на тонких шрамах, пересекавших ладони, прежде чем вернуться к моему лицу. Шрамы были совсем бледными, не грубыми, незаметными никому, кроме меня. По крайней мере, мне так казалось. Я на это надеялась. — Так что, — Анри снова вздохнул, расправив плечи, — прошу вас, возьмите.
У меня в груди потеплело. Я взяла платок.
— Вот и чудесно!
Я заморгала:
— Что чудесно?
Анри смущенно потер затылок. В конце концов он ответил:
— Вы улыбнулись! Настоящей улыбкой наконец-то — думается мне, она настоящая. Вы так мало улыбались с тех пор, как приехали. И казалось, что это было не от души.