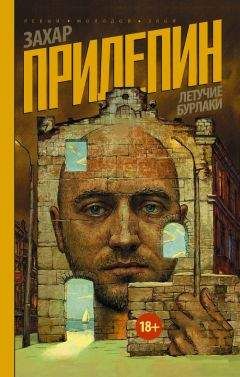Обитель - Прилепин Захар
– Один раз очень долго убивали мужика, никак не могли убить. Очень кричал, и всё замазали кровищей. И я ушёл. Дайте ещё баранку, я видел, у вас есть.
Василий Петрович вздохнул и достал баранку.
– А ты что делал? Воровал?
– У богатых воровать можно, – уверенно ответил Серый.
– А у бедных?
Серый подумал и не ответил. У него, похоже была отличная манера – просто не отвечать на неприятные вопросы.
– А со скольки лет воруешь? – не унимался Василий Петрович.
– А сколько себя помню – всегда ворую. Пишите – с трёх лет.
– Мы не пишем, – тихо сказал Василий Петрович.
– А что тогда? Какой интерес?
Митя Щелкачов тоже прислушивался к разговору, сдвинувшись на нарах, чтоб искоса смотреть на обросшую башку Серого.
Тем временем Артём копался в своих ощущениях: “Мне жалко его? Или не жалко? Кажется, что почти не жалко. Я, что ли, совсем оглох?”
Серый был вовсе не глуп – речь давала это понять, и Артём удивлялся: как так?
И, только задумавшись о речи, он вдруг понял про себя какую-то странную и очень важную вещь: у него действительно почти не было жалости – её заменяло то, что называют порой чувством прекрасного, а сам Артём определил бы как чувство такта по отношению к жизни.
Он отбирал щенков у дворовой пацанвы, издевавшейся над ними, или вступался за слабых гимназистов не из жалости, а потому что это нарушало его представление о том, как должно быть. Артём вспомнил Афанасьева и его словами завершил свою мысль: “…Это не рифмовалось!”
На Соловках Артём неожиданно стал понимать, что выживают, наверное, только врождённые чувства, которые выросли внутри, вместе с костями, с жилами, с мясом, – а представления рассыпаются первыми.
Беседу с пацаном прервал злобный гам в том углу, где кучно обитали блатные. Серый сразу исчез, как и не было, – и недопитую посуду с чаем унёс.
Артём прислушался и через минуту понял, в чём дело.
Блатные сплошь и рядом прятали свои вещи либо рвали штаны, рубахи и даже обувь – лишь бы не ходить на работу: голых гонять запрещалось.
Озлившийся Крапин стал раздевать пришедших с дневной рабочей смены догола, чтоб одеть уходивших на ночные наряды.
– У меня всё сырое! С утра будет ещё сырей! Я в сыром пойду? – орал кто-то.
– А будут знать, как рвать! Симулянты гнилые! – орал Крапин, убеждая то одного, то другого дрыном. Ему вроде бы помогал Бурцев, но, как показалось Артёму, с блатными тот был сдержанней, чем с китайцем.
Когда с валявшегося на нарах Шафербекова Крапин самолично сорвал штаны, всем прочим стало понятно, что деваться некуда. Ксива расстался со своим пиджаком – рубаху у него ещё десятник Сорокин порвал. К ногам Крапина полетели ботинки, рубахи, сапоги.
– Посчитаемся, – сказал Шафербеков, накрывая ноги пальто, явно отобранным у какого-то несчастного.
Никак не предупреждая о своих намерениях и словно бы зная наперёд, что Шафербеков не смолчит, Крапин с разворота ударил его дрыном по лицу и ещё несколько раз потом добавил по рукам – когда гакнувший от боли Шафербеков закрыл голову.
– Посчитаешься, – сказал Крапин, тяжело дыша. – Зубы свои посчитай пока.
Он сгрёб одёжную кучу ногой и скомандовал ночной партии:
– Наряжайтесь, тёплое.
На всех явно не хватало, и Крапин, ходя меж рядами, велел раздеться Лажечникову, Сивцеву и многострадальному китайцу. На Артёма с Афанасьевым и Василием Петровичем даже не взглянул. Моисей Соломонович очень убедительно спал, как будто это могло бы его спасти – но вот, надо же, спасло.
На том бы и закончиться дню. К несчастью, времени хватило ещё на одно событие.
После нудной вечерней поверки ночная партия ушла, и всё вроде бы стихло.
Шафербекову принесли кувшин с водой и тряпку – он долго умывал лицо, оттирал присохшую кровь с бровей и прикладывал ладони, полные розовеющей влагой, к губам. Блатные с напряжённым вниманием смотрели на Шафербекова, словно тот мог намыть золото таким образом.
Артём признался себе, что чувствует натуральное, огромное, очень честное и очень радостное злорадство.
Быть может, оно и сгубило его.
Шафербеков, долго трогавший шатающиеся зубы, поймал взгляд Артёма – тот сразу отвернулся, откинулся на свои нары, притих, приготовился спать, даже задремал – день был длинный, длинный, длинный, хвост его терялся, добраться к началу было почти невозможно: беспризорный Серый с чёрным, полным золы ухом пил кипяток, два индуса улыбались и мягко раскачивались, веники были душисты и шуршали, Афанасьев хохотал, тряся рыжей головой, как будто солома в его волосах, солома и солнце, а ещё раньше удавленник дразнился языком, и муха…
Афанасьева тем временем позвали к блатным, Артём не хотел об этом думать, он уже спал честно и крепко… но его всё равно толкнули.
Открыл глаза. Пожевал сухим ртом. Горела одна лампочка, и шёл свет через открытую дверь из тамбура дневальных.
Многие лагерники спали, но кто-то бродил меж нарами, кто-то лениво ругался, а Митя Щелкачов играл с одним из индусов в шахматы.
– Что? – сказал Артём, всё пытаясь найти слюну во рту.
– Тёма, в общем, договор такой, – быстро, словно желая поскорее завершить скучное дело, заговорил Афанасьев. – Делишь половину следующей посылки с Ксивой. Он пострадал.
– Какой посылки? – уселся на нарах Артём. – Моей? Да пошёл он.
– Тихо, – сказал Афанасьев, понизив голос. – Посылка ведь не пришла ещё. Погоди. Мало ли что случится, пока придёт. Не торопись.
Артём осклабился – ему ужасно хотелось выругаться. Афанасьеву тоже очевидным образом было не по себе.
– Ты не должен был его бить, Тёма, – пытался объяснить Афанасьев, взяв тот странный и лживый тон, который иногда выбирают себе с детьми взрослые, заранее осознающие собственную шаткую и стыдную правоту. – Понимаешь, в их среде бить просто так нельзя. Нужна веская причина! Блатные, ты заметь, Тёма, могут кричать друг на друга ужасными словами: кажется, вот-вот – и порвут. Но это как бы игра на выдержку. Ударить можно только за настоящую, кровную обиду. А ты приложил его вообще за пустяк. Он же шутил! А теперь он блюёт с любой еды! Я не смог так пояснить твой поступок, чтоб они поняли твою правоту.
– Да нахер мне их понимание вообще, – бесился Артём, которого переполняла не столько жадность до конской колбасы – хотя и до неё тоже, – сколько неожиданная, болезненная, жуткая какая-то обида за мать: она там ходит по рынку, собирает ему, сыночку, в подарок съестного на последние рубли – а он будет поганого Ксиву этим кормить.
– Артём, их много, они могут убить, ты же всё знаешь, – шептал Афанасьев, придерживая Артёма за колено, но тут, привлечённый разговором, появился и сам Ксива, голый по пояс и очень довольный.
Афанасьев развернулся и встал у него на пути, так чтоб Ксива не мог пройти к нарам Артёма.
– Свой не свой, а на дороге не стой, – сказал Ксива Афанасьеву.
– Я стою на своём месте, Ксива, – очень достойно ответил Афанасьев. – Ты тут дорогу не прокладывал.
– Ты ему передал? – спросил Ксива Афанасьева, покачиваясь из стороны в сторону и насмешливо поглядывая на Артёма. – Пусть все посылки со мной половинит в течение года. У меня на глазах.
– Одну, Ксива, – повторил Афанасьев упрямо, но уже не столь жёстко, как только что отвечал.
– Какую, бля, одну, Афанас! – взвился Ксива, чувствуя, как его сила прирастает, а чужая тает. – Все! Все, Афанас! И мой тебе совет: не лезь много в чужие дела! Ты не вор. Ты фраер, хоть и при своих святцах.
Афанасьев не сдвинулся с места. Ксива ещё покачался из стороны в сторону, отвисшая губа тоже покачивалась; не дождавшись ответа, ушёл.
Артём молчал, глядя куда-то в сторону, наискосок – не видя, куда смотрит, и не понимая, что его там привлекло.
Наконец понял: это была нога Моисея Соломоновича.
Моисей Соломонович лежал, накрывшись покрывалом с головой, но его нога подрагивала так, как у спящего не дрожит.