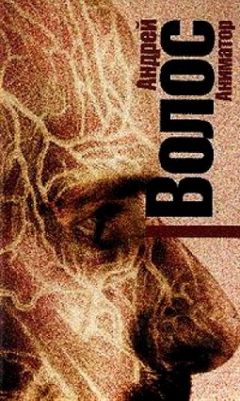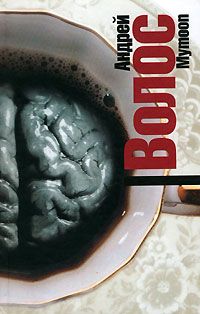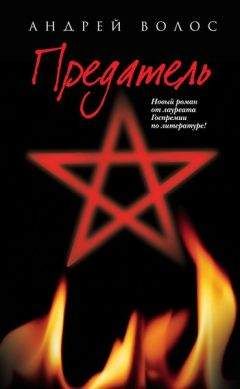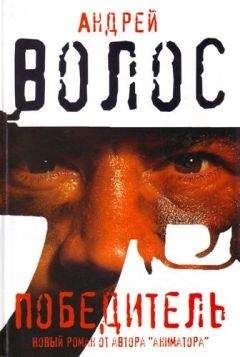Андрей Волос - Маскавская Мекка
— … ах ты, придурок! — закончил он при этом фразу.
Охранник вытянулся, как на смотру, и уставным движением прижал палку к правой ноге.
— Менеджера мне! — сухо приказал Найденов.
— Э-э-э-э… — заблеял мамелюк, по-собачьи облизываясь и тряся головой. — Господин, ведь я… простите, господин!.. бэ-э-э…
— Менеджера, сказал!
Страж отступил на шаг и расстроенно забухтел в переговорное устройство.
Не более чем через три минуты Найденов миновал ворота, чинно проследовал по медной брусчатке двора и вот уже шагал по красному узорчатому ковру, узкой полосой закрывавшему ступени, отделанные лазуритовой мозаикой.
— Просто недоразумение, — напряженно бубнил высокий костистый человек в светлом костюме, явившийся по зову мамелюка, чтобы отхлестать последнего по суконному рылу лайковой перчаткой. — Недоразумение, которое…
Бэдж на лацкане пиджака сообщал, что это был начальник охраны Горшков, Константин Сергеевич.
— …Самым строгим… соответствующие меры, — придушенно выдыхал он.
— Да уж, будьте добры, — цедил Найденов. — Проследите… окажите любезность… Совсем они тут у вас…
Каменнорожий швейцар, глазом не моргнув при взгляде на плащ и ботинки посетителя, придержал дверь, и Найденов, в котором отчаяние и ярость уступили место сосредоточенному оледенению, переступил порог «Маскавской Мекки».
Голопольск, четверг. Заседание
— Товарищи! — сказала Александра Васильевна. — Я понимаю, что все устали. Но, к сожалению, в повестке дня еще один вопрос.
Басовитый гомон стих. Двенадцать крупных мужчин, вот уже две или три минуты занимавшиеся тем, чем всегда занимаются люди в коротких перерывах напряженных и утомительных заседаний (потягиваются, хрустят суставами пальцев, вздыхают и перебрасываются почти ничего не значащими словами), снова подались к длинному столу, в котором отражался безжалостный свет десятирожковых люстр, и одинаково положили сцепленные ладони на его полированную поверхность.
— Вопрос не такой значительный, как предыдущие… но все-таки очень важный. И тоже требует срочного разрешения, — устало сказала она. — Памятник Виталину пришел в полную негодность. Есть авторитетное мнение, что скульптура не подлежит восстановлению…
Нажала кнопку селектора:
— Зоя, пригласите Емельянченко!
Тут же открылась дверь, и в кабинет вступил Евсей Евсеич. Остановившись у порога, он выжидательно поглядел на Твердунину.
— Проходите, — предложила она. — Евсей Евсеич Емельянченко, главный художник пуговичной.
Все брезгливо смотрели на пунцовые штаны художника. Кто-то крякнул, кто-то присвистнул. Директор пуговичной Крысолобов вздохнул. Пуговицы в виде серпа и молота, в виде наковальни и четырех перекрещенных снопов пшеницы (серия «Радостный труд»), в виде Краснореченского кремля и отдельных его башен (серия «Старина вековечная»), в виде гаубичных снарядов, увитых золотой лентой (серия «Победа гумунизма») — все это переливалось и сияло на стенах худотдела. По фондам фабрика получала гранулированный полистирол, цветом и формой похожий на зубы курильщика, да изредка листовую латунь; а художник мыслил в категориях драгметаллов и самоцветных камней. «Вы мне предоставьте материал! — кричал Емельянченко на худсоветах. — Какая латунь?! Что ж думаете? на латуни выехать?! Вы мне рубин фондируйте для башен!.. Платину для гаубиц!..»
— Дело ясное, — сказал сейчас Евсей Евсеич. — Я сорок лет имею дело с произведениями искусства. Арматура отломилась. Не починишь.
— А подварить? — спросил Крысолобов.
— Ах, Николай Еремеевич, варить-то к чему? Ржа одна. Не подваришь.
— Это что же значит — не подваришь? — хрипло возмутился начальник мехколонны Петраков. — Да я сейчас своих ребят свистну, агрегат подвезут — и подварят в лучшем виде. Тоже мне — подварка! Не в первый раз, как говорится.
— Свистнет он! — саркастически бросил Емельянченко и неожиданно затрепетал, вытягиваясь. — Вы кому это говорите? Вы мне это говорите?! Вы меня будете учить с явлениями искусства обращаться?! Па-а-а-адва-а-а-а-а-аришь! Подвариватель! Вы что?! У меня дипломы краевых выставок! У меня четыре премии!.. Свистнет! Что ваши ребята сделают?! Говорю же вам русским языком — проржавело все к чертовой матери.
— Вы моих ребят не трогайте! Мои ребята хоть в красных штанах и не щеголяют, а подварили бы в лучшем виде.
— Штаны! — изумился Емельянченко. — Я бы на вашем месте, Павел Афанасьевич, помолчал насчет штанов! Я, как человек с тонким художественным вкусом, много чего мог бы о ваших штанах сказать. Однако видите вот — молчу!
— Тише, тише, товарищи! — вздохнула Александра Васильевна. — Что вы, право, всякий раз — штаны, штаны… Да и слово-то какое — штаны. Ну, брюки, хотя бы…
— Предложения-то какие-нибудь есть? — спросил Грациальский.
— Предложения есть, — кивнул Емельянченко. — Есть одно предложение, да Александра Васильевна отвергает… Я, товарищи, не понимаю, честное слово! Или мы позволяем себе смелость творца, и тогда искусство гумунистического края занимает достойные позиции на мировой арене. Или держимся за вековечные штампы, и тогда наше искусство не занимает достойных позиций на мировой арене.
Александра Васильевна уныло подперла голову кулаком.
— Конкретно! — бросил Грациальский.
— Пожалуйста! Поскольку арматуру подварить нельзя, — Емельянченко обвел присутствующих взглядом; присутствующие кивнули, один только Петраков что-то недовольно буркнул. — …а без арматуры рука держаться не будет… — Снова все согласились. — …предлагаю изменить композицию монумента. Руку слепить загнутую, прижатую к груди. И положить ее как бы в перевязь… понимаете? Памятник будет называться «Виталин после ранения»! Аналогов не существует! Он воздел испачканный золотой краской палец. — Понимаете?
— На перевязи… — задумчиво повторил Грациальский, туманно поводя глазами и, видимо, силясь представить себе обрисованную картину.
— Это будет шаг вперед! Это будет — ис-кус-ство! — горячился новоявленный скульптор. — Это смелость! Это отвага! Это уход от рабского следования традициям! Ну давайте проявим хоть каплю смелости! А насчет руки можете не беспокоиться: слеплю так, что ахнете! Как живая будет! И перевязь! А, товарищи?
Он замолчал, умоляюще глядя на Грациальского. Тот отвел взгляд и неопределенно покрутил в воздухе пальцами.
— Ну как? — спросила Александра Васильевна, посматривая то на одного, то на другого члена бюро.
— Это что же получается? — пророкотал Глючанинов, словно желая подтвердить ее сомнения. — Как говорится, дешево и сердито? Так, что ли?
С каждым следующим словом его голос набирал силу. Погоны угрожающе вздыбились на широких плечах.
— Значит, рука отвалилась — давай ее на перевязь! А нога отвалится что, Евсей Евсеич, костыль предложите?! Народ выйдет завтра на площадь, увидит эту вашу… — он прижал правую руку к груди, а левой посучил вокруг шитого генеральского обшлага, словно чем-то заматывая, — культю эту вашу увидит и что скажет?! Да вы что! Народ не обдуришь! Вам же завтра всякий ткнет: что вы мне вместо вождя подсовываете?! Тем более сейчас, когда даже закормленный пролетарий Маскава поднимается на битву за наши идеалы! Когда мы спешно мобилизуем армию, чтобы двинуть ему на помощь добровольческие отряды! Вы что, товарищи?!
Генерал обвел присутствующих грозным взглядом и сел.
Его слова произвели действие живой воды. «Фу, правда, глупость какая!» — сказал Грациальский, кривясь. «Действительно!..» — пробормотал Клопенко и цепким взглядом пробежался по фигуре Емельянченко, словно выискивая в нем что-то такое, чего не замечал прежде. Петраков хохотнул и сказал: «Ну, умора!..»
— Возражения есть? — спросила Александра Васильевна. — Понятно. Евсей Евсеич, вы свободны. Значит, товарищи, с одним ясно: памятник нам нужен новый. Но когда он появится — сказать не могу. Сами знаете, какое в крае положение… В этой связи возникает еще один вопрос — пока нет нового, куда девать старый?
Через две или три секунды Петраков шумно вздохнул и сказал недоуменно, откидываясь на спинку стула:
— Что значит — куда девать? Да на помойку! Сейчас свистну ребят, кран подгоним и…
Он не закончил фразы и остался с раскрытым ртом, потому что Александра Васильевна обожгла его таким взглядом, что даже в этой большой и ярко освещенной комнате на мгновение стало еще светлее — будто молния сверкнула.
— Вы, Павел Афанасьевич, не в первый раз проявляете крайнюю политическую близорукость, — холодно заметила Твердунина, бросив карандаш и поднимаясь со своего места. — Я-то к этому уже привыкла… а вот товарищи! Не знаю, как посмотрят на вашу недальновидность товарищи по бюро! Может быть, им покажется, что вы все-таки недостаточно зрелы, чтобы участвовать в работе ратийных структур! Я вас ценю как специалиста, — она легко усмехнулась, показывая этим, как мало стоит то, за что она его ценит, в сравнении с тем, за что ценить не может, — и мехколонна добилась в прошлом году отличных результатов, завоевав переходящее знамя районного комитета… Однако в политических вопросах вам еще очень и очень надо поработать над собой… чтобы не совершать ошибок хотя бы в таких важных, я бы даже сказала — архиважных вопросах!