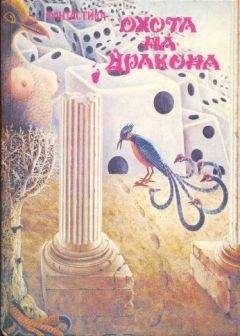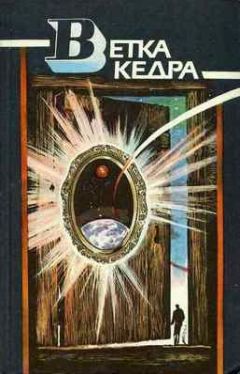Борис Давыдов - Московит
– Проше князя, – вежливо, но твердо возразил я, – но лучше уж излишняя твердость верховной власти, нежели излишняя ее слабость. Поскольку разброд и чрезмерное своеволие ни к чему хорошему привести не могут. Разве сам ясновельможный не видел множество раз, в какие долгие и непристойные свары превращались заседания сейма? Разве в шведском языке как раз в семнадцатом веке не возникло выражение «Польский риксдаг», что означает пустую, бессмысленную говорильню, приводящую лишь к потере времени? Да, меры против тирании необходимы, спору нет, это хорошо понимали еще древние римляне, у которых диктатор обладал неограниченной властью лишь полгода, а потом любой гражданин мог предъявить ему обвинения в суде! Но точно так же нужно бороться с необузданным своеволием шляхты, и прежде всего – магнатов. Вспомни мой рассказ, ясновельможный, ведь именно чудовищный эгоизм польского дворянства, не желавшего поступаться даже малой толикой своих прав и привилегий, цеплявшегося за «либерум вето», и привел к упадку государства! А потом – к его разделам!
Князь застыл на месте, как статуя. Лишь его лицо мелко подрагивало.
– Пан во многом прав… – чуть слышно произнес он. – Но все же… Это будет непросто, очень непросто! Сейм ни за что не допустит, чтобы король стал реальным правителем, со всею полнотой власти!
– Допустит! – решительно заявил я. – Мы его заставим!
Глава 17
Уже упоминавшийся Хозяин – сиречь тот самый янки, попавший ко двору короля Артура, – став его первым советником (прямо как я), наряду с плюсами своего нового положения сразу же отыскал целую кучу минусов. Одежда роскошная – но непривычная. Целая куча слуг – но когда они нужны, надо идти за ними самому. Ни привычной сантехники, ни газет… вообще ничего! Даже ни одного рекламного проспекта!
Я попал примерно в такую же ситуацию. Хотя XVII век – это далеко не VI, но в плане привычек и бытовых удобств он был бесконечно далек от нашего времени… Впрочем, человеку с моим жизненным опытом хватит самого минимума, чтобы чувствовать себя вполне комфортно. Крыша над головой есть, пища есть, одежда есть… какого рожна еще надо?
Именно этим вопросом я задался, с наслаждением растянувшись на своем «сексодроме» в отведенных мне покоях. И крепкий, далеко не старый еще организм охотно дал ответ. Более чем естественный с мужской точки зрения. Несмотря на то, что после треволнений сегодняшнего дня я должен был «отрубиться», едва коснувшись щекою подушки.
Ага, щас! Мысль о том, что Анжела находится в двух шагах, прямо за соседней стенкой (так распорядился сам князь по моей настойчивой просьбе), волновала и будоражила, напрочь прогоняя попытки уснуть. Как я ни старался воззвать к здравому смыслу и совести – мол, бедняжка считаные часы назад перенесла такое потрясение, до секса ли ей сейчас! – ехидная память тотчас напоминала во всех подробностях еще большее потрясение, испытанное ею в степи. И наше бурное соитие, случившееся сразу же вслед за ним…
«Андрюха, держи себя в руках! Ты все-таки первый советник князя, а не прыщавый подросток, охреневший от буйства гормонов! – снова не утерпел противный голос. – И, кроме того, с ней сразу две служанки! Им приказано с «княжны» глаз не спускать! Куда их денешь? Ликвидируешь? Тебе-то это раз плюнуть, но поймут ли? Средневековье-с…»
Я, заскрежетав зубами, снова – в который уже раз – отправил его в дальнее путешествие, после чего с немалым трудом все-таки заснул. Как нетрудно догадаться, сон большей частью был эротический. Анжела превзошла саму себя, посрамив авторов Камасутры. Вот только она почему-то превратилась в жгучую брюнетку…
Человек, сидевший на дубовом чурбаке под наспех натянутым парусиновым пологом, закрепленным на кольях, имел самую обычную, ничем не примечательную внешность. Не тощ, но и не толст, не могуч, но и не хлипок. И лицо какое-то среднее, невзрачное. Его немного портил разве что нос, давно сломанный и плохо сросшийся, который был скошен на сторону. Но не настолько, чтобы это можно было назвать уродством.
Впрочем, любой, встретившийся с этим человеком взглядом, тотчас позабыл бы про нос. Таким яростным, испепеляющим огнем горели его глаза, глубоко посаженные под толстыми, почти сросшимися, бровями. Это были глаза хищника, терзаемого лютым, неутолимым голодом.
Страшно избитый улан, брошенный перед ним на колени, не был трусом. Но его распухшие губы, покрытые запекшейся кровяной коростой, сами инстинктивно зашевелились, поминая Матку Боску, сына Ее и всех святых угодников. Так явственно взглянула на него в эту минуту из страшных глаз казацкого атамана сама смерть.
– А остальные? Никто не ушел? – хриплым, клокочущим голосом, словно першило в горле, спросил предводитель.
– Обижаешь, батько! – пожал могучими плечами казак, держащий конец веревки, которой были опутаны руки пленного. – Но жаль, некогда было с ними возиться, легкой смертью отделались, песьи дети! Этого лишь оставили, для допроса. Ну и для потехи, как батько захочет…
– Добре, друже! – ухмыльнулся предводитель, растянув губы свои в каком-то жутком оскале. Поляк содрогнулся, мысленно препоручая душу свою Езусу.
– Ну, зараз слухай, пане! – Голос превратился в какой-то змеиный шип. – Это твой последний рассвет. Заката ты не увидишь, смерть пришла. Только сам рассуди: она ведь бывает разная… Если ответишь на мои вопросы прямо и без утайки – будет быстрой и легкой. Слово тебе даю! Хоть и тяжко мне это, хоть и положил себе мордовать вас, ляхов проклятых, без всякой жалости, каждую каплю крови из вас, собачьих детей, выцеживая, – а слово сдержу. Ну а ежели упрешься или будешь врать… Проклянешь собственную матерь, что не скинула тебя до срока, когда была тобой брюхата. В том тоже слово даю.
И приблизив почти вплотную свое побагровевшее лицо к белому от ужаса лицу пленного улана, казак договорил:
– А все знают, и други, и враги, что слово Максима Кривоноса крепче булатной стали!
…Пробудился я на рассвете, как обычно. Пару секунд недоуменно хлопал веками, силясь понять: где я и каким чертом меня сюда занесло, потом все вспомнил и со вздохом откинул одеяло…
«Вставайте, король! Вас ждут великие дела!» – такими, кажется, словами приветствовал своего царственного подопечного каждое утро личный камердинер Фридриха Великого… Я, правда, не король, всего лишь первый советник князя, но дела предстояли такие, что и Фридрих, при всей своей неуемной энергии, впал бы в тихий ужас. Или в громкий.
Быстро натянув сорочку, шаровары и жупан, обернув ноги бархатными портянками и вставив их в сапоги (вообще-то мне полагалось вызвать прислугу, и уже она одела бы ясновельможного пана, но к чертовой матери это правило!), я вышел из комнаты. Дежурный слуга, сидевший в углу на стуле, дернулся, вскочил, всем своим видом изображая рвение и готовность исполнить любое мое пожелание. Вслед за ним вскочили, вытянувшись в струнку и пожирая меня глазами, два стражника, занимавшие скамью у противоположного угла.
«Так, охрана на месте и бдит. Это хорошо! Похоже, пан Дышкевич крепко запомнил слова князя: если, мол, хоть один волос упадет с головы пана Анджея…»
– С добрым утром, ясновельможный па… Ой! Да как же так?! – растерянно забормотал слуга. Его глаза округлились, лицо приняло растерянно-глуповатое выражение. – Ясновельможный пан первый советник… одетый?!
– А что, пану первому советнику в первозданном виде расхаживать? – с аптекарской точностью отмеряя дозу яда, спросил я.
– На бога! Конечно же нет… Но ясновельможному стоило только кликнуть, я мигом одел бы пана…
– Вот что! – Я сразу решил брать быка за рога. – Как твое имя?
– Мацей, проше ясновельможного…
– Так вот, Мацей! Я из Московии, знаешь, наверное?
– Знаю, ясновельможный…
– А в Московии с недавних пор принято, чтобы паны сами одевались и раздевались. Даже самые важные и пышные! Без помощи слуг. Кроме старых и увечных, ясное дело, которым это тяжко… Ну а я еще не стар и здоровьем крепок, слава Создателю. Потому, хоть я теперь состою на службе его княжьей мосьци, а от обычаев своей родины отступать не намерен. Так и запомни и другим слугам расскажи. Московитский обычай!
– А-а-а… понятно… – растерянно выдавил слуга. – Расскажу, ясновельможный…
Снисходительно кивнув, я потянулся было к дверной ручке, но меня опередил стражник. Он осторожно приоткрыл дверь, выглянул наружу, потом с поклоном отрапортовал:
– Все спокойно, ясновельможный пане! Опасности нет!
И первым вышел за порог, положив ладонь на рукоять сабли. Всем своим видом, казалось, он говорил: «Попробуйте только замыслить худое против пана первого советника! Только через мой труп!» Его напарник, также поклонившись, отступил в сторону, пропуская меня к двери, потом зашагал следом.
«Это что же получается? – с легким неудовольствием подумал я. – И в сортир будем заходить с такими же церемониями?!»