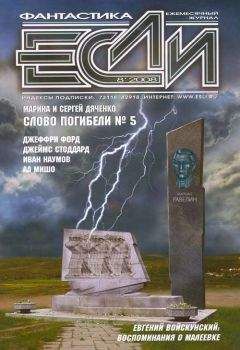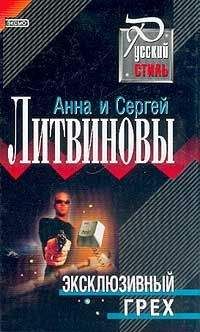Сергей Арбенин - Дети погибели
Это он – про царя. Значит, в сапоги надо стрелять. А то и ниже… Но это завтра, завтра…
Соловьёв почему-то вздохнул.
* * *
После собрания Михайлов, Квятковский, Гольденберг, кто-то ещё и Соловьёв отправились в трактир. Закрылись в отдельном кабинете.
– Я всё равно пойду, – сказал Соловьёв. – Мне партия не указ. Я сам всё решил – сам всё и сделаю. Только мне бы пролётку запряжённую, чтоб на Дворцовой ждала. С кучером, чтобы ускакать сразу.
Михайлов переглянулся с Квятковским и Морозовым.
– А вот пролётку-то, Саша, мы тебе дать и не можем… Конечно, можно из партийной кассы денег взять, а кучером… ну, хоть я сяду. Но, видишь ли…
– Да всё я вижу, – хмуро отозвался Соловьев. – Боятся они.
– Конечно, боятся, – сказал Гольденберг, еще один «претендент», которого Соловьёв теперь знал. Гольденберг говорил пренебрежительным тоном. Уж он-то, после того, как убил харьковского губернатора князя Кропоткина, конечно, ничего не боялся.
– И, между прочим, я первым высказал идею стрелять в царя, – добавил Гольденберг и гордо оглядел присутствующих.
– Если Гольденберг будет стрелять, – сказал Квятковский, словно Гольденберга здесь и не было, – то скажут: во всём виноваты жиды. Начнутся еврейские погромы, аресты, высылки.
– А если я? – спросил третий «претендент», Людвиг Кобылянский. И сам себе ответил: – Ах да, конечно: виноватыми окажутся поляки. Они и так во многом виноваты…
– Логично, – сказал Михайлов. – Следовательно, стрелять может только великоросс.
Он искоса взглянул на Соловьёва. Тот сидел бледный, как полотно. Потом вскинул глаза и ровным голосом сказал:
– Не надо мне вашей помощи. И обсуждений никаких больше не надо. Спасибо, сам справлюсь…
Поднялся и вышел.
* * *
Соловьёв внезапно почувствовал, что сильно устал и проголодался. Увидев вывеску трактира, зашёл. Занял столик в углу; ел, не понимая, что ест. Только когда расплачивался, удивился: оказывается, он и водки выпил! Странно. И не заметил даже… И снова стал вспоминать события последних дней.
Собрание было в среду. А в пятницу Соловьёв приехал к родителям, жившим на Лиговском. Поужинали все вместе. После ужина Соловьёв засобирался.
– Куда ты? – всполошилась мать.
– Прости, мама. Дело у меня. Очень важное.
– Знаем мы твои дела, – желчно заметил отец. – Тебе полный курс гимназии дали окончить, за казённый кошт. Спасибо великой княгине Елене Павловне, вечная ей память… В университет поступил – опять же, благодаря ей. Брат твой, вон, в Сенате служит!
«Ну, завёл свою шарманку… – раздражённо подумал Соловьёв. – „В Сенате”! По хозяйственной части…» Он с детства только и слышал, что должен быть благодарен Елене Павловне и её деньгам. Когда-то отец даже заставлял маленького Сашу ежевечерне под лампадой поклоны бить, поминая добрым словом великую княгиню.
– Не ей благодаря, а её деньгам, – поморщился Соловьев: ругаться ему совсем не хотелось. – Да и деньги эти не её, – народные они.
Отец закрыл ладонями уши, взвизгнул:
– Не желаю слушать эту нигилятину!.. Вот она, нынешняя-то молодёжь! И это вместо благодарности. Совсем особачились! И эти девки стриженые… И живут друг с другом, не стесняясь, во грехе! Тьфу!
Мать замахала на отца руками:
– Костя, Костя! Ну, что ты опять? Саша так редко заходит, а ты всё про то же…
– А про что же ещё? – ответил отец, доказывая тем самым, что и с закрытыми ушами всё прекрасно слышит. – Против власти пошли! Против власти, Богом данной! Газету страшно раскрыть: что ни неделя – убийство, стрельба, покушения… Что творится такое? Или все разом с ума посходили? Я тридцать лет при дворе честью и правдой служил, и скажу честно: Елена Павловна – золотой была человек! И братья её, и племянники! Государь Николай Павлович, помню, на каждую годовщину восшествия на престол подарки вручал. Лично! Даже мною, помощником лекаря, не гнушался!.. Э-эх… На кого замахнулись? На кого руку подняли? А?
Он уже кричал, брызжа слюной.
Соловьёв махнул рукой, обнял мать, отвёл от стола подальше, шепнул:
– Прости, мама. Я сейчас уйду… Исчезну… Но это не надолго. Скоро весточку о себе подам… Скоро ты обо мне услышишь…
Мать заплакала; он поцеловал её в морщинистую мокрую щёку, вытерпел её ответный троекратный поцелуй. Всхлипывая, мать проводила его до дверей, перекрестила на прощанье.
– Сашенька! – сказала напоследок. – Ты же у нас старший, надежда наша. Гляди уж, держись в стороне от этих своих… И здоровье своё береги! Вот, возьми, – я тебе шарф связала.
Соловьёв молча взял шарф, чмокнул мать прямо в чепец – и выскочил из квартиры.
На улице отдышался, и – разрыдался. Вытирался шарфом, не обращая внимания на изумлённых прохожих. По тропке через Неву люди шли гуськом, боясь ступить на лёд, поскользнуться; многие с санками; барышни с детьми на руках; мужик с вязанкой березовых дров на спине…
Соловьёв, вынужденно уступая дорогу, злился.
Так и шёл до Невского проспекта. Только там успокоился. Посмотрел на шарф, помял его в руках, – тёплый, пуховый… Расстегнул верхние пуговицы пальто, обмотал шарфом шею. Шарф был мокрым от слёз, и Соловьеву внезапно стало холодно. Так холодно, что затрясло, зубы заклацали – едва их удерживал.
* * *
И вот – всё узнал, всё готово.
А покоя на душе – нет. И страха нет, но точит что-то сердце…
Он вышел из трактира. Постоял, глядя на Невский, на извозчиков с белыми нумерами на спинах, на оживлённую толпу.
Отдохнуть бы где, поспать хоть немного: три последние ночи почти не спал.
– Господин, – раздался сбоку чей-то голос, и лёгкая рука тронула его за рукав. – Не желаете?..
Соловьёв обернулся. Перед ним стояла барышня лет семнадцати, нарумяненная, с насурьмленными бровями, в бархатной шубке и щегольской котиковой шапочке.
Глаза – чёрные, смотрят.
– Чего вам? – грубовато спросил Соловьёв.
Девушка опустила глаза и повторила дрогнувшим голосом:
– Не желаете?..
И только тут Соловьёв понял. И ещё вдруг понял: желает! Ведь это его последняя ночь. Его ночь. И что будет завтра – Бог весть! А ведь у него ещё ни разу с женщиной ничего не было…
– Желаю, – внезапно охрипшим голосом сказал он.
Из трактира, толкнув слегка Соловьёва, вывалилась группа подвыпивших василеостровских немцев. Один из них, кивком указав на Соловьёва, весело засмеялся:
– Hoch! Der russische Held!
Соловьёв даже не обернулся. Ну вот, «ура русскому герою!». Откуда знают? О чём они? О Турецкой войне?..
Так, случайность…
Надо идти отсюда. Он не знал, куда идти и что делать, и ещё – почему-то боялся этой странной, с огромными глазами, женщины.
Помог случай. Возле них возник городовой – румянец во всю щёку, глаза навыкат. Покосился на Соловьёва и буркнул барышне:
– Шляетесь везде… Проходите, нечего тут стоять! Развелось вас, шельмов…
Барышня тут же схватила Соловьёва под руку.
– Нельзя стоять… Пойдёмте…
– Куда? – машинально спросил Соловьёв.
– А вы не хотите угостить даму? – спросила она заученно и, опустив глаза, повела его к Фонтанке.
* * *
Она привела его к большим, распахнутым настежь, расписным воротам. В ворота цепочкой входили люди. Пройдя через двор и поднявшись на крыльцо, Соловьёв наконец понял, куда привела его «барышня». Это было увеселительное заведение, известное как «Малый Эльдорадо». Двухъярусный зал, столики, снующие между ними официанты. Посередине – сцена. На ней отплясывал местный кордебалет под лихую польку, которую играл небольшой оркестр.
Соловьёв шагнул в зал, остановился. Барышня чуть не налетела на него.
– Ну, что же вы встали? – спросила она.
– Не хочу я здесь, – мрачно ответил Соловьёв.
– А где же вы хотите? – в голосе барышни послышалось раздражение. – В настоящий «Эльдорадо» таких, как я, не пускают-с.
– Отчего же? – сказал Соловьёв. – Я там видел девиц… Извините, впрочем.
– Ничего… – ответила она.
Их немилосердно толкали люди, проходившие в залы и выходившие на улицу.
– Так и будем стоять? – сказала она.
– Нет, не будем. Идёмте!
Соловьёв быстро вышел из прокуренного, пропахшего алкоголем и человеческим потом помещения, глубоко вдохнул сырого свежего воздуха.
Барышня семенила за ним.
Соловьёв вышел на набережную Фонтанки, вернулся на Невский, остановился у витрины. Освещенные газом, в витрине ярко сверкали разноцветные бутылки, заботливо уложенные в мох.
– Подождите меня минутку, – сказал Соловьёв. – Что вы будете пить?
У женщины был недоумевающий и растерянный вид. Она проговорила:
– Что прикажете…
Соловьёв скоро вернулся, держа сверток с двумя бутылками.
Он повеселел. Всё это приключение стало казаться ему забавным.
– Говорите, куда надо идти, – сказал он. – И, кстати, как вас зовут?