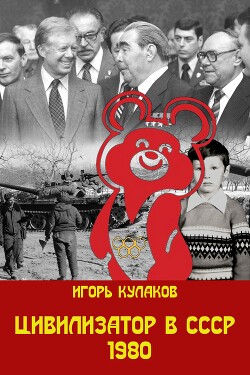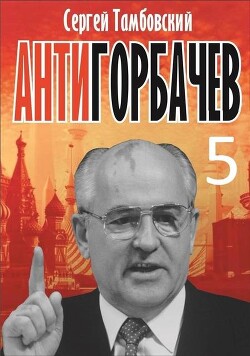Телохранитель Генсека. Том 4 (СИ) - Алмазный Петр
От личной собственности остаются разве что фотографии в рамочках, книги с дарственными надписями, несколько комплектов одежды. Даже гараж, набитый люксовыми автомобилями — не личная собственность, а государственная. Я подумал, что именно по той причине, что нет ощущения полноценного владения выделенным имуществом, жены некоторых партийных деятелей с таким трепетом относятся к драгоценностям. Потому что эти побрякушки дают им ощущение владения собственными ценностями, которые можно сохранить, передать детям и внукам. Камень в кольце или старинная брошь становятся символом права на личную историю. Дворянские замашки, конечно, но факт имеет место быть.
Но Брежнев не такой… Он вообще, похоже, живёт не ради себя, а только для других людей. Историческая фигура, знаковая личность. Но странно и грустно, что мы забываем, что он тоже человек, с такими же, как у всех, переживаниями. И, как всякий отец, тревожится за свою дочь. Его забота о Галине ничем не отличается от тревоги любого рабочего или колхозника, переживающего за свою кровиночку. Какая бы ни была она — своенравная, непредсказуемая, яркая — она прежде всего его дочь. И он любит ее так, как умеет любить только отец, глядящий на своего первенца.
Той любовью, что возникает сразу же, когда впервые берешь крошечное существо на руки. Когда слышишь робкое, но безмерно важное: «Папа!». Когда ведешь за руку в школу, на первую линейку, и сам тоже нервничаешь, как ученик. Поправляешь ей бант, гордишься, волнуешься. Это остается навсегда у любого любящего родителя.
Увы, у меня с моими нынешними дочерьми нет таких чувственных воспоминаний. Те, что остались от Медведева — это заимствованная память, надетая, как одежда не по размеру. Я помню много событий, но слишком мало его эмоций и ощущений. Разумеется, я люблю своих девочек, они милые и веселые дети, и я порой забываю о том, что они на самом деле не совсем мои, но все же, все же…
Пройдя по дорожке до машины, я скользнул взглядом по Николаю. Он молча смотрел на меня, ожидая распоряжений.
«Какой-то слишком уж мрачный шеф, — подумал он. — Видимо, день будет сложным».
Я вздохнул, мысленно соглашаясь со своим водителем. День действительно обещал быть сложным.
Ехали со средней скоростью, хотя стоило бы поторопиться. Но дороги оставляли желать лучшего. Небольшая оттепель и ударивший следом за ней мороз сделали дорожное полотно настоящим ледяным катком. Гололед — штука опасная, может на ровном месте и пустой дороге занести так, что из кювета не выбраться.
На Лубянке я первым делом направился к Удилову.
Тот оказался в отличном настроении. Видеть Вадима Николаевича улыбающимся приходилось чрезвычайно редко.
— Доброе утро, Владимир Тимофеевич! — поприветствовал меня генерал-майор.
— А оно доброе? — полушутя уточнил я.
— Еще бы! — Удилов указал рукой на стул возле своего перфекционистского стола. — Присаживайтесь!
Я в очередной раз оглядел уже ставший привычным кабинет. В нем ничего никогда не меняется. Все вещи лежат на установленных местах, в идеальном порядке. Пересчитал карандаши на столе — как всегда, ровно девять штук. Лесенкой от самого длинного до короткого.
— Кстати, все хочу спросить: почему у вас такой маленький кабинет? — поинтересовался я.
— Мне хватает, здесь я совещания не провожу, — пожал плечами Удилов. — У аналитиков места больше, но я с ними стараюсь общаться только по конкретным вопросам. А так не мешаю их свободе самовыражения. Ребята талантливые, но, как вы понимаете, постоянно находиться с ними рядом в том хаосе я не могу — это совершенно не совместимо с моими привычками и взглядом на организацию пространства.
Удилов присел на свое место, положил перед собой папку с бумагами. Я обратил внимание на цвет наклейки на корешке папки. Уже немного стал разбираться в цветовой классификации Удилова. Желтый — это перебежчики. И чем глубже, чем интенсивнее цвет наклейки, тем более подозрителен объект наблюдения. На этой папке цвет наклейки был почти оранжевым.
— Толкачев? — наугад предположил я. — Признаюсь, думал, что вы о вчерашнем убийстве в туалете хотите поговорить.
— Об этом с вами следователь поговорит, — ответил Вадим Николаевич. — Кстати, он просил вас потом зайти, дать показания. А про туалеты вы угадали — в последнее время у нас все случается в туалетах, — он усмехнулся. — Вы вчера разбирались с убийством адвоката в туалете, а мои оперативники задержали Толкачева. И, представьте, тоже в туалете! У них с американцем встреча была назначена в таком вот чудесном месте. Взяли с поличным — при передаче фотопленок, содержащих совершенно секретные материалы о новейших системах управления боевыми самолетами и о приборах для обхода радиолокационных станций.
— Хорошо, что успели вовремя, — похвалил я работу коллег.
— Да, Адольф Георгиевич Толкачев почему-то не любил радиопередачи и всякие заначки в тайниках. Предпочитал встречаться с американскими разведчиками лично. Что в данном случае лишь облегчило нам работу.
— Любитель живых разговоров с близкими ему по духу людьми? — усмехнулся я саркастически.
— Да, есть у него такая особенность… превозношение американского стиля жизни, — слегка поморщившись, подтвердил мои слова Удилов. — Выдумал сам себе какую-то романтическую Америку и сам в нее влюбился. Вдобавок обчитался Солженицына. Ну и, разумеется, куча личных психологических комплексов.
— Непризнанный гений?
— Вроде того. Недооценка его способностей на основном месте работы тоже имела место быть. Недавно я с ним побеседовал лично. Спросил, что ему мешало то же самое предложить на его непосредственной работе.
— И что же он ответил? — с неподдельным интересом спросил я.
— Сначала пел известную песню о том, что его очаровал американский образ жизни, что не может жить без американской музыки. Что все бы отдал за то, чтоб у нас в стране была такая же атмосфера свободы…
— Не дай бог, чтоб такая же… — не удержался я от комментария.
— … Но потом как-то сдулся и горько так продолжил: «Я много раз носил предложения своему начальнику. Все время заворачивали назад. Мол, это не по теме твоей работы, у нас план горит, а я, видите ли, всякой херней занимаюсь».
— Так дайте ему возможность работать, в чем проблема-то? — я пожал плечами. — Пусть лучше в нашей шарашке под присмотром науку двигает, чем на зоне будет рукавицы шить. А кому он собирался передать документы?
— Советнику посольства, некоему Джону Резнику. Так — мелкая сошка на побегушках у резидента ЦРУ. К сожалению, Резника пришлось отпустить — дипломатическая неприкосновенность — но персоной нон-грата объявили тут же. Но этим МИД занимается. А вот то, что Толкачева взяли прямо там, на глазах американца, уже аукнулось. Почитайте, что пишут в газетах.
Удилов достал из ящика стола газету «Нью-Йорк таймс» и бросил на стол. Сверху положил распечатанный на машинке перевод.
— Не хватает лишь фотографии Толкачева в туалете, — усмехнулся Удилов. — Однако текст и без нее получился весьма любопытный.
Я начал читать: «Советское КГБ не дает американским дипломатам общаться с простыми советскими людьми. Любой человек, который заговорит с американским дипломатом тут же арестовывается агентами советских спецслужб и без суда и следствия направляется в страшные таежные лагеря и на строительство советской дороги БАМ. Так, например, в общественном туалете на улице Горького к американскому дипломату шестому советнику посольства Соединенных Штатов Джону Резнику подошел молодой человек. Он передал дипломату письмо, в котором сообщал о многочисленных фактах нарушений прав человека при выезде советских евреев на историческую родину в Израиль. Тут же в туалет ворвалась группа сотрудников КГБ в штатском. Без предъявления каких-либо документов, без оглашения прав при задержании, они грубо скрутили молодого героя-правозащитника. Сотрудник посольства тоже был задержан и, без надлежащих на то санкций, подвергнут обыску тут же, в туалете. Хотя он заявлял о своей дипломатической неприкосновенности, его не слушали. Арестованных доставили на Лубянку. После того, как посол Соединенных Штатов Америки выразил свой протест, Джон Резник был отпущен из советских застенков. Но письмо о нарушении прав человека, которые передал мужественный советский гражданин, у него были изъято. Что теперь стало с отважным молодым человеком, ради свободы общественной рискнувшего свободой личной? Жив ли он? Или расстрелян без суда и следствия?»