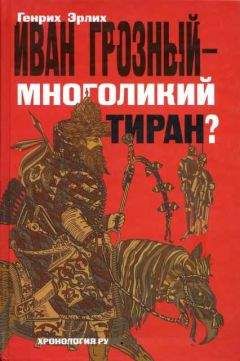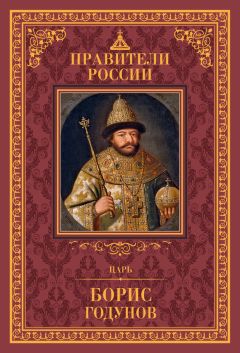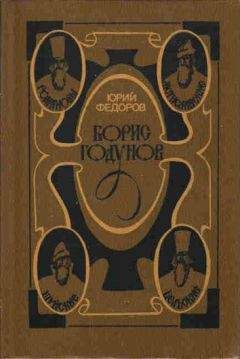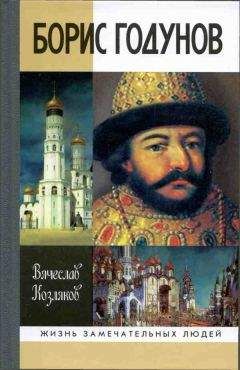Генрих Эрлих - Царь Борис, прозваньем Годунов
Но что больше всего раздражало меня в царе Симеоне, так это его страсть к спорам. Ну почему все люди малообразованные так любят говорить об умном?! Истинные мудрецы предпочитают молчание, люди, совсем необразованные, болтают о том, что видят, или о простых событиях своей жизни, а всяких недоучившихся школяров, семинаристов или стряпчих вкупе с сельскими философами непременно тянет на высокое. Да и где мог получить Симеон хоть какое-нибудь образование? В касимовские юные годы его едва научили складывать буквы, да духовник приучил его к чтению пластыри, а в тверской глуши он мог разве что одолеть Священное Писание, но без глубокого проникновения в его сокровенные тайны, да еще подхватить обрывки разных сведений из истории, географии, космологии и других наук. И с таким запасом ввязывался он в любой спор, отдавая предпочтение божественному. Впрочем, высокой науки диспута ученого он тоже не ведал, поэтому спор быстро перетекал в его длинный монолог, любые возражения, буде они возникали, он отметал самым несуразным образом, а если противник упорствовал, то и пресекал их самыми простыми и действенными методами.
Ничтоже сумняшеся, он вступал в такой спор с кем угодно, даже и с иезуитами. Прибыл к нам как-то в Москву посол папы римского, званием нунций, именем Поссевин, и попытался склонить царя Симеона к идее объединения церквей наших. Симеон какое-то время слушал внимательно, пытаясь разобраться в хитросплетениях иезуитских кружев, а потом резко осадил посла, сказав, что невозможно нам объединяться с людьми, которые, вопреки преданиям, бреют бороду, и тут он уставился перстом в бритый подбородок посла. Тот от неожиданного аргумента смешался и сумел лишь выдавить, что-де не бреет он бороды, она у него сама не растет, а вот, дескать, у папы Григория борода очень густая. Но Симеона уже понесло, прицепившись к слову «папа», он выложил нунцию все, что он думал о римских первосвященниках, об их гордости непомерной, об их стяжательстве и жизни развратной, и в заключение воскликнул: «Твой римский папа не пастырь, а волк!» Посол оскорбился: «Если папа волк, то мне нечего больше и говорить!» — и повернулся, чтобы уйти. Но царь Симеон на такую непочтительность не разгневался и, чрезвычайно довольный своей победой в споре, завершил его своей обычной, грубоватой шуткой. «А не бросить ли нам сего еретика в воду?» — спросил он у бояр, чем вызвал у них неподдельный смех, восторг и энтузиазм. Тот Поссевин еще легко отделался, потому что до главного аргумента в споре дело не дошло. А вот как-то в Ливонии, куда царь Симеон прибыл во главе войска, он схлестнулся в споре о вере с одним пастором, тот с присущей протестантам прямолинейностью и твердолобостью посмел возражать и даже приравнял Лютера апостолу Павлу, за что был бит посохом по голове и по спине с напутствием: «Пошел ты к ч… с твоим Лютером!»
Одно утешало — что при страсти к речам многословным у Симеона начисто отсутствовал писательский жар. Более того, из некоего суеверия он даже запрещал записывать сказанное им, тем самым избавив человечество от множества суесловных страниц. Это ли не пример того, что и иные суеверия могут быть полезны!
* * *По большому счету, не было мне никакого дела до чудачеств и причуд царя Симеона, вы спросили — я рассказал, только и всего. Меня ведь одно трогало — как Симеон к Ивану относится, как с ним себя держит, только о племяннике любимом сердце мое болело.
А тут до поры до времени все складывалось весьма неплохо, даже лучше моих ожиданий, которые с возрастом становились все более пессимистическими.
Симеон пожаловал Ивана званием князя московского (тем самым, что Иван некогда так легко мне отдавал, вот ведь как обернулось!), дал в удел княжество Псковское, дозволил набрать себе отдельный двор и охрану. Называл его сыном и на торжественных приемах послов всегда сажал рядом с собой и с собственным сыном Федором, говоря, что они равно дороги сердцу его. А случалось такое нередко, потому что, по причинам разным, послы иноземные зачастили в те годы в Москву и были приятно удивлены тем, что после многих лет их стали допускать пред светлы очи государя московского.
Мне кажется, что в тех действиях царя Симеона не было ничего показного. Познакомившись с Иваном лишь после завершения борьбы ожесточенной и проведя с ним вместе много часов во время вынужденного сидения в Александровой слободе, Симеон был очарован высокими качествами души Ивановой и возлюбил его всем сердцем. Да и как можно было не возлюбить его?!
Иван отвечал Симеону почтительностью и смирением. И тут, к сожалению, не было ничего показного. Говорю «к сожалению», потому что сам я такого поведения Ивана не принимал и не понимал, не хотел понимать. Почтительность — ладно, все же Симеон возрастом старше, но зачем же так далеко заходить в смирении? Двора отдельного Иван заводить не стал, не набрал и стражу крепкую, говоря, что хранят его Господь Бог и любовь народная. Жил скромнее иного боярина, верный своей нелюбви к Кремлю поселился на Петровке в палатах тесных и, когда его призывали, ездил в Кремль не верхом в сопровождении свиты, а в простом возке, как — прости, Господи! — купчишка или князишка немощный. И в Думе боярской никогда не садился рядом с царем Симеоном, а непременно с краюшку, среди бояр второразрядных. В пожалованный ему Псков не выезжал, говоря, что дела государственные внушают ему отвращение. Так же и в Думе боярской первое время молчал, ни во что не вмешиваясь, лишь по прошествии многих месяцев постепенно увлекся, стал предлагать меры разные. Но и их подавал в форме челобитных на имя царя Симеона и подписывался смиренно — Иванец Московский.
Удивительно, но такое поведение Ивана лишь увеличивало расположение к нему царя Симеона и удваивало его усилия пристроить Ивана самым достойным образом. И тут весьма кстати освободился польский престол.
Я уже не раз упоминал о делах польских, некоторые, прочитавшие мои заграничные записки, вероятно, помнят, что я даже руку приложил к избранию французского принца Генриха королем польским, но история эта началась много раньше, и, думаю, не лишним будет ее здесь изложить. Не обессудьте, если в чем-то повторюсь.
Литвины и ляхи — братья наши кровные, к ним и отношение всегда особое было, не как к подданным, а именно как к братьям меньшим. Поэтому в империи нашей обширной им были выделены уделы, где они могли жить и управляться почти самовластно. Это «почти» часто забывалось, особенно когда брат старший вдруг ослабевал от трудов тяжких или в дремоту погружался. Мнили тогда уделы себя державами отдельными, случались бунты, столкновения военные и прочие неудовольствия, обычные между братьями, но мы на все смотрели снисходительно и никогда не карали их жестоко, всеж-таки кровные наши, а не какие-нибудь, прости Господи, немцы.
Литвины были милее сердцу нашему, у них и вера наша, православная, и обычаи с нашими до последней черточки схожие, и сами они люди серьезные, основательные, и власть у них Господом установленная, великокняжеская. Лях же — братец беспокойный, вечно мятущийся и буйный, он и в вере был такой, отстав от веры православной, бросился в объятия латинян, потом поддался ереси лютерской, опять в католичество переметнулся, одним словом, без царя в голове, правильнее сказать, без короля. Это ж надо такое придумать — короля избирать, собравшись в круг! Воистину варварство! Бывало такое лишь во времена легендарные, когда люди Бога не знали! Иногда, впрочем, ляхам приходили в голову здравые мысли, к примеру избрать себе в короли соседа ближайшего, великого князя литовского, тогда в земле Польской на какое-то время наступал хоть какой-то порядок.
Дед наш, Иоанн Васильевич Грозный, после очередной смуты империю под скипетром своим объединивший, не мог, конечно, Литву с Польшей без своего внимания и опеки оставить. Но сделал это мягко, по-братски. Дочь его Елена, тетка наша единокровная, стала великой княгиней литовской, а по мужу своему Александру Ягеллону еще и королевой польской. Казалось бы, все правильно делал дед наш, хотел он через внуков навечно закрепить Литву с Польшей за родом нашим, что отвечало чаяниям сокровенным и народов наших. Но вот они — планы долгие, вот они — тайны рождения наследника, о которых я вам так много раньше говорил! Прогневил дед наш Господа, и Он не послал ему внуков в этой ветви. С сожалением должен признать, что решение мягкое, миролюбивое, милостивое в делах государственных далеко не всегда оказывается самым верным. Надо было деду, пока в силе великой был, посадить на престол польский, а заодно и литовский не дочь свою, а сына, отца нашего, тут бы и конец всем проблемам! Но скончался дед, за ним через несколько месяцев последовал и Александр Ягеллон, отец наш попытался сам на престоле польском утвердиться, но по молодости своей и неопытности не сумел того достичь, лишь разругался с соседями и довел дело до войны. Вот так все в одночасье перевернулось!