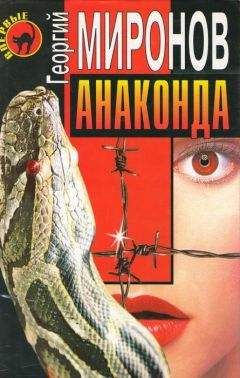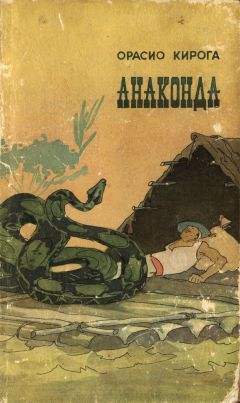А. Дж. Риддл - Зов Атлантиды
— Я полагаю, установленное для случая первой поимки количество ударов кнута уже отпущено, сэр. Если только вы не желаете вынести преступнику смертный приговор. Тогда его приведёт в исполнение расстрельная команда.
— Таков установленный здесь законом порядок? — спрашивает глава миротворцев.
— Так точно, сэр, — чеканит Пурния, и несколько других кивают в знак согласия. Я уверена, что на самом деле они ни о чём таком и отдалённого представления не имеют. В Котле «установленный законом порядок» для того, кто появится там с дикой индейкой, означает начало яростных схваток за индюшачью ножку — кто больше предложит.
— Ну что ж, очень хорошо. Забирайте вашего кузена, барышня. И если он очухается, то напомните ему, что попадись он в следующий раз — я сам лично возглавлю эту самую расстрельную команду.
Глава миротворцев плотно стиснутыми пальцами резко проводит по всей длине кнута, забрызгивая нас кровью. Затем он сматывает его аккуратными витками и уходит.
Большинство миротворцев гурьбой бредут за ним. Некоторые остаются и, схватив вялое тело Дария за руки и за ноги, отрывают его от земли. Я ловлю взгляд Пурнии, пока она ещё не ушла, и одними губами, беззвучно говорю: «Спасибо». Она не отвечает, но, уверена, она поняла.
— Гейл! — Я бросаюсь к нему, тереблю узлы на его запястьях. Кто-то передаёт нож, и Питер разрезает верёвки. Гейл падает на землю.
— Давай-ка поскорей доставим его к твоей матери, — говорит Хеймитч.
У нас нет носилок, но старуха-старьёвщица продаёт нам стол, служащий ей прилавком. «Только не говорите, где вы его раздобыли», — бормочет она, быстро упаковывая остатки своего товара. Площадь теперь почти пуста, все боятся выказывать сострадание. Но после того, что только что произошло, у меня не хватает духу кого-либо обвинять в трусости.
К тому времени, как мы кладём Гейла на стол вниз лицом, на площади остаётся лишь кучка людей. Хеймитч, Пит и пара шахтёров, работающих в одной бригаде с Гейлом, поднимают стол и несут его.
Ливи, девочка, живущая через несколько домов от нашей хибары в Шлаке, держится за безвольную руку Гейла. В прошлом году моя мать сумела вылечить её младшего братишку от ветрянки.
— Вам нужна помощь, чтобы отнести его домой? — Её серые глаза перепуганы, но настроена она решительно.
— Нет, но не могла бы ты сбегать к Хазелл и послать её к нам? — спрашваю я.
— Конечно! — Ливи сходу разворачивается на каблуках.
— Ливи! — окликаю я. — Пусть не берёт с собой детей.
— Хорошо. Я сама с ними останусь, — отвечает она и убегает.
— Спасибо! — Я подхватываю куртку Гейла и несусь вслед за остальными.
— Положи снега на это безобразие! — бросает мне Хеймитч через плечо. Я сгребаю в пригоршню снега и прикладываю его к щеке. Боль чуть притупляется. Мой левый глаз теперь всё время слезится, и в тускнеющем свете дня всё, что на что я способна — это поспевать за сапогами, месящими снег передо мной.
По дороге я слушаю, как Сердюк и Шип, товарищи Гейла по бригаде в шахте, выкладывают подробности о том, что произошло. Должно статься, Гейла, как и сотню раз до того, понесло прям в дом Крея, тот ить даёт хорошую цену за дикую индюшку. Ну и сходу напоролся на нового начальника миротворцев, его, слыхать, зовут Ромул Тред. Кто его знает, куда подевался Крей. Ещё сёдня утром он покупал самогонку в Котле и, кажись, всё ещё был главным, а теперь его и след простыл. Тред тут же арестовал Гейла, а как же — он же стоял там, держа в руке убитую индюшку, так что тут и говорить нечего, всё ясно. Слух, что с ним неладно, тут же разошёлся по городу. Его приволокли на площадь, заставили признаться в преступлении и тут же приговорили к порке кнутом. Когда барышня появилась на площади, ему уже всыпали никак не меньше сорока штук. Правда, он сомлел после тридцати...
— Счастье, что у него только одна индюшка и была, — говорит Сердюк. — Если б он туда заявился со своей обычной добычей, ему б так легко не отделаться.
— Он наплёл Треду, что, дескать, она бегала сама по себе по Шлаку, мол, пробралась через забор, а он её только пришиб дубинкой. Всё равно, считай, преступление. Но кабы они узнали, что он был в лесу, да ещё и с оружием, не сносить бы ему головы, — добавляет Шип.
— А что случилось с Дарием? — спрашивает Пит.
— Где-то после двадцати хлёстов он заступился, сказал, мол, хорош, стоп. Только он это не по-умному сказал, не по-официальному, как Пурния. Он хватанул Треда за руку, а тот и врезал ему по башке кнутовищем. Эх, не ждёт его ничего хорошего, — сокрушённо качает головой Сердюк.
— Да и нас всех тоже, — говорит Хеймитч.
Начинается снегопад, тяжёлые, мокрые хлопья делают видимость ещё хуже. Я, спотыкаясь, бреду по дорожке к своему дому, больше ориентируясь на слух. Из открывшейся двери на снег льётся золотистый свет. Моя мать, без сомнения, ожидавшая увидеть на пороге меня и собиравшаяся задать взбучку за долгое отсутствие без предупреждения, столбенеет при виде нашей процессии.
— Новое начальство, — роняет Хеймитч, и она кивает, будто других объяснений и не требуется.
Я преисполняюсь трепета, как всегда, когда вижу, как мать из женщины, зовущей меня на помощь при виде паука или мыши, преображается в женщину, не ведающую страха. Когда к ней приносят больного или умирающего... я думаю, только в эти моменты моя мать живёт полной жизнью.
В одно мгновение длинный кухонный стол вычищен, вымыт и накрыт стерильной белой простынёй. На неё кладут Гейла. Мать наливает кипяток из чайника в таз, одновременно отдавая распоряжения Прим, чтó нужно достать из медицинского шкафа: сушёные травы, и настойки, и какие-то аптечные флаконы... Я наблюдаю за руками матери, вижу, как её длинные, тонкие пальцы что-то сыплют и капают в таз с кипятком, потом пропитывают получившимся раствором салфетку. И опять следует приказ Прим — приготовить всё нужное для следующего раствора.
Мать бросает на меня мимолётный взгляд:
— Твой глаз не повреждён?
— Нет, — говорю, — только опух.
— Приложи ещё свежего снега, — командует она. Ясное дело, мои травмы могут и подождать.
— Ты спасёшь его? — умоляюще спрашиваю я маму. Она ничего не отвечает, лишь выкручивает салфетку и расправляет её в воздухе, чтобы немного охладить.
— Не волнуйся, — говорит Хеймитч. — До Крея порки случались частенько. Твоя мать знает, как лечить такие раны.
Времени до Крея я не помню. Я не застала предыдущего начальника миротворцев, так любившего порки. Но мать в то время, наверно, была в моём нынешнем возрасте и работала в аптеке своих родителей. Значит, уже тогда у неё были руки целителя.
Потихоньку, очень осторожно она начинает очищать и промывать истерзанную плоть на спине Гейла. Мой желудок скручивает. Чувствую себя такой ни на что не годной... Растаявшие остатки снега капают с перчаток, на полу натекает лужа. Пит усаживает меня в кресло и прикладывает к моей щеке салфетку с завернутой в неё свежей порцией снега.
Хеймитч просит Сердюка и Шипа идти домой. На прощанье он суёт по паре монет в их заскорузлые руки.
— Кто знает, как там оно пойдёт с вашей бригадой, — бормочет он. Они кивают и принимают деньги.
Входит запыхавшаяся Хазелл, щёки у неё красны от холода, волосы запорошены снегом. Без единого слова она падает на табурет у стола, берёт Гейла за руку и подносит её к своим губам. Мать не обращает на неё ни малейшего внимания. Она сейчас находится в особенной зоне, которая включает в себя только её и пациента, ну и, временами, Прим. И мы, и весь остальной мир могут подождать.
Даже её умелым рукам требуется долгое время, чтобы очистить раны, расправить уцелевшую кожу, нанести целебную мазь и наложить лёгкую повязку. По мере удаления с тела моего друга потёков крови я начинаю различать полосы от каждого удара кнута и чувствую, как ноет рубец на моём собственном лице. Я воображаю, как должны болеть сорок таких рубцов, и надеюсь только на то, что Гейл подольше останется без сознания.
Само собой, я слишком многого хочу. Когда наложена последняя повязка, с его губ срывается стон. Хазелл гладит его по голове и что-то нашёптывает ему, а мать и Прим перебирают наш невеликий запас болеутоляющих, из тех, что доступны только врачам. Их трудно достать, они очень дороги и на них огромный спрос. Матери приходится приберегать самые сильные из них для особо тяжёлых случаев, но как определить, тяжёлый это случай или нет? Для меня самая страшная боль — это всегда та, которая терзает в настоящий момент. Будь я на месте моей матери, у меня болеутоляющие разошлись бы мгновенно — я не выношу вида страданий. А моя мать в состоянии сохранить лекарства для тех, кто действительно находится на пороге смерти, чтобы облегчить им переход в мир иной.
Поскольку Гейл теперь в сознании, они останавливаются на травяной настойке, которую можно влить ему рот.