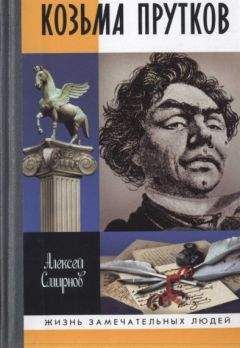Разночинец (СИ) - Прутков Козьма Петрович
— Лошадей! Лошадей выводите! — истошно завопил кто-то. — На Жандармскую огонь пошёл!!!
Из дома выскочил тот мужик, что меня выволок. На плече он тащил ту самую бабулю, с которой началась вся катавасия. Только на этот раз была она нисколько не прозрачной.
И я вдруг со стеклянной ясностью понял, что все эти люди — вовсе не музейные работники. Они тут просто живут. В каком-то... наверное, тысяча восемьсот с чем-то году.
Полагаю, неудачное выступление декабристов случилось довольно давно, потому что вот этот дом-музей Трубецких, который прямо сейчас на моих глазах рухнул, не выглядел недавно построенным, скорее, наоборот.
— Воды! Воды давай!
— Нету больше!!!
Свист в моих мозгах усилился нестерпимо. Это поехавшая крыша даёт последний гудок, — подумал я и отрубился.
3
Пахло... чем-то медицинским. Не знаю, что это, на ум приходило только слово «камфора» (подозреваю, никакого отношения к текущим обстоятельствам не имеющее).
Я открыл глаза. Так. Похоже, кто-то пожертвовал на благое дело слегка обгорелые мешки — такие, знаете, жёсткие, вроде крапивных. На мешках лежали или сидели пострадавшие, ожидающие своей очереди. Не так много, как можно было ожидать. Между рядами сосредоточенно перемещался мужик в уже изрядно испачканном сажей белом халате. Такой в кино «Собачье сердце» был у профессора Преображенского, с завязками на спине. Санитар? Нет, скорее, доктор.
Отдельно, выполняя докторские указания, суетились две немолодых монахини, в чёрных глухих одеяниях, и в белых фартуках поверх.
— Оклемались? — устало и немного сердито спросил голос с другой стороны. Я, опасаясь нового приступа свиста, осторожно повернул голову. Ага. Этот — точно санитар. Здоровенный детина, и больного на руках утащит, и буйного скрутит.
— Та... — вместо голоса сплошной сип.
— Имя-звание? — санитар насупил брови и приготовился писать огрызком карандаша в изрядно замусоленном журнале.
Растерянность вдруг накрыла меня панической атакой.
— А как... к-х-х... А как... кха-рх... — я пытался спросить: «А какой сейчас год?» — и никак не мог выговорить фразу до конца.
— Акакий Акакиевич, что ли? — сердито спросил санитар.
Это предположение меня неожиданно протрезвило.
— М-м-м! — отрицательно помаячил я пальцем.
— Встать можете? — решил зайти с другой стороны Балда от медицины и протянул мне руку.
Я с удивлением обнаружил, что могу и сесть, и даже, с осторожностью — встать. Тело, конечно, ныло — с лестницы же сверзился — но ходить могу.
— Идите покуда к столам, — санитар ткнул пальцем, — сёстры вам чаю нальют. А уж после доктор посмотрит.
Я кивнул и пошёл, размышляя, что раз уж небесная лотерея даёт мне новую жизнь, то и имя я могу выбрать по своему усмотрению.
Честно говоря, звали меня не Ярослав, это англичанка в панике перепутала. В паспорте было записано: «Ярополк». Да, я был типичной жертвой разразившейся в самом начале нулевых моды на древние имена. Древнерусские в основном, но не только. Помнится, в нашем классе из тех, с кем я более-менее общался, были Добрыня, Святополк (которого математичка всё время звала «Окаянный»), Рогнеда, Переслава, Добронрав, выбивающийся из общего ряда Коля (тот самый айтишник), два Елисея и один Сильмарилл, сын толкинистов. Историчка считала, что Сильмарилл всё портил. Если бы не он, можно было бы представить, как будто вот-вот придёт Мамай и сожжёт эту школу к херам собачьим — это я лично слышал, когда рядом с учительской дежурил, чтоб звонки подавать.
Теперь я могу представиться каким-нибудь абсолютно банальным именем и ощущать себя в этом отношении совершенно счастливым. Главное, нет говорить, что забыл, а то как возьмутся по святцам выдавать, а там такие имена есть, мама дорогая.
Я доковылял до столов, где совсем уж пожилая монахиня разливала чай в деревянные кружки и подкладывала на большие блюда булки и пироги из плетёных коробов.
— Держи, сынок, — она поставила передо мной кружку, из которой я сразу с благодарностью отхлебнул, и спросила: — Звать-то как?
Что сказать? Что я ещё не определился? Интересно, в Иркутске уже есть дурдом?
— В помянник запишу, — улыбнулась она доброй старческой улыбкой, и я почему-то сказал:
— Семён, — хотя пять минут назад хотел быть Александром.
— Семё-ё-ён, — у монахини для записи был не карандаш, а массивная чернильница и ручка-палочка с прицепленным металлическим пером.
Перьевая ручка! Ужас!
Я автоматически принял всунутую в руки булку, и сел за стол, погружаясь в пучины отчаяния. Что я буду здесь делать??? Нет — что? Я же по большому счёту ничего не умею, не владею никаким ремеслом. Я даже расписаться за себя смогу исключительно коряво — из любопытства пробовал, найдя в комоде у бабушки старые перьевые ручки, что-то изобразить. Результат более чем неудовлетворительный.
Почему бы не попасть, к примеру, в каменный век? Во всяком случае, на археологической практике я был самым крутым из всех, кто научился делать чопперы. Не мотоциклы, понятное дело, а примитивные каменные топоры и рубила.
Хотя, нет. Каменный век — совсем отстой. Катастрофический дефицит любого комфорта. И все тебя хотят сожрать. И все пахнут, можно себе представить, как! А медицина? Точнее, полное её отсутствие, кроме, разве что, интуитивной фитотерапии.
Тут — вон она, ходит медицина, хоть какая-то. С другой стороны, надо внимательно смотреть, чем тебя хотят накормить, а то, не ровён час, напичкают какой-нибудь селитрой или кокаиновыми леденцами от кашля. Про зубных врачей лучше вообще не думать. Я передёрнул плечами. Может, зубную пасту изобрести? Если её уже не изобрели. Или хотя бы зубной порошок.
Мда.
Подошёл доктор. Я представился ему как Семён Семёнович Георгиев — фамилию, как кот Матроскин, решил наследственную взять, в старинных русских традициях, по отцу. Ничего лучше не придумал, чем соврать, что я разночинец, студент Московского университета, ехал в гости в Читу, но теперь не знаю, что и делать — все мои вещи и деньги погибли в пожаре...
Доктор что-то пометил в журнале и ободрил меня, что документ, хотя бы временный, мне выдадут — единственно надо подождать, пока пожар отбушует.
— А разве ещё горит? — новость всколыхнула крайне неприятный страх.
— У, батенька! Верховик пошёл, в обед, говорили, двадцать шесть кварталов уж выгорело. На небо-то хоть гляньте — конца не предвидится.
Небо, и впрямь, сплошь было затянуто дымовой взвесью, и солнце сквозь него просвечивало пугающе-багровым шаром.
В унынии я спустился с площади, куда продолжали прибывать пострадавшие, к берегу Ушаковки, больше похожему сейчас на обширный луг. Здесь было свежее, и вид домов на противоположном берегу внушал осторожную надежду, что город не выгорит подчистую, хотя на деревянном мосту через реку дежурили мальчишки с вёдрами на верёвках — заливать, если вдруг пламя нанесёт с ветром, и звать подмогу.
А верховик не унимался. Деревья на высоком противоположном берегу трепало, будто кто вениками тряс. И это при ужасной жаре. Представляю, как в центре города вспыхивают одна за другой кроны, пал перепрыгивает по крышам...
Я побрёл по берегу в сторону Ангары и с удивлением обнаружил множество плотов, сбившихся почти в сплошной настил — от самого устья Ушаковки и выше. Дальше по берегу рядами стояли телеги.
И те, и другие были загружены самым разнообразным скарбом, свёртками, рулонами, корзинами, кулями и садками, а вокруг толклось множество ярко разряженных баб и девок, и большинство из них с досадой глазело на поднимающиеся над городом дымы.
К ночи пожар не только не погас, но распространился ещё шире. Небо горело оранжевым заревом, нестерпимо воняло гарью и постоянно доносился гул и потрескивание. Стало понятно, что от центральной части города не останется практически ничего.
Глава 2
1
Железная дорога – или в просторечии просто «железка» – изменила в Тульской губернии буквально всё.