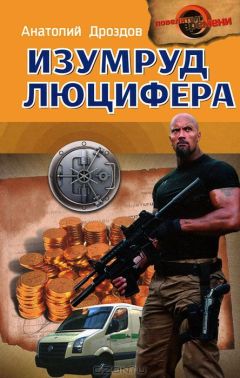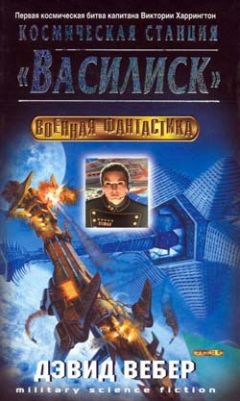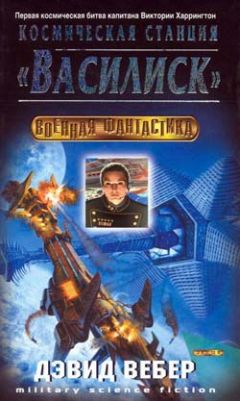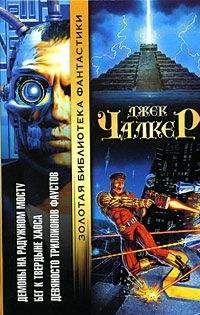Анатолий Дроздов - Изумруд Люцифера
– Вы и жену на своем факультете нашли?
– Нет. На заводе.
– Да ну? – за портьерой зашевелились: было видно, что заинтересовались всерьез. – Расскажите, а? Так интересно…
– Что тут интересного? Учился я на дневном, стипендии не хватало, поэтому вечерами подрабатывал на заводе, в железнодорожном цехе. Трактора грузили на платформы и в полувагоны. Работа еще та: кран трактор поставит, а мы его толстой железной проволокой к платформе прицепим, а после проволоку ломами закручиваем посередине, чтобы в натяжку машину держалась. Работа тяжелая, платили не слишком много, отсюда и контингент был специфический: каждый второй – бывший зэк. Меня они не трогали, даже уважали по-своему. Студент, молодой, жалобы и заявления им помогал писать. Маша там диспетчером работала. Она тоже студенткой была, училась заочно на экономиста. Маленькая, беленькая, носик в веснушках – поначалу не очень показалась. Потом вижу: симпатизирует мне, отчего ж не воспользоваться…
Кузьма помолчал.
– Я хоть и не такой, как Влад, был, но все же… У нас на филологическом один парень на десять девчонок приходился, избаловали они нас… Может, и с Машей все быстро бы кончилось, но тут история одна… Я тогда в газету начал пописывать, ребята с которыми вместе работал, подбили: напиши, как наше начальство ворует. Я написал, газета напечатала. Начальству это очень не понравилось. Мне прямо сказали: парень, умолкни! А у меня – азарт. Еще одну статейку выдал. Словом, как-то вечером уединились мы с Машей в полувагоне, а тут подваливают двое. Тоже из бывших зэков, но начальством прикормленные. Начали кочевряжиться, как я потом понял, специально, чтобы спровоцировать. Много ли пацану, чтобы загореться, надо? Подрались. Я им накостылял, потом стало ясно, что этого они и хотели. Заявление в милицию… снятие побоев… уголовное дело о злостном хулиганстве… Статья – до пяти лет.
– И? – Рита аж привстала на своей постели.
– Посадили бы как миленького, если б не Маша. Милиция у начальства тоже, видно, была прикормлена, дело шурудили – только пыль стояла. А Маша уперлась: они первые напали, он защищался. Уж как только ее не ломали! Уволим! И уволили… Из института выкинем! И выкинули б, если б не ребята из газеты… Мать ее из деревни вызывали; мол, дочка твоя преступника покрывает, убеди дуру! Мать в слезы: "Дочушка, што ж ты робишь, ты ж яшчэ молодая, знойдзешь сабе…" А она стояла насмерть! Вот тут-то я на нее другими глазами посмотрел. Решил: если она сейчас, когда я ей по сути никто, так за меня бьется…
– Закрыли дело?
– Закрыли, но не сразу. Может, и довели бы до суда, несмотря на упорство Маши – единственного свидетеля, да ребята из цеха вмешались. У зэков тоже понятия о справедливости есть. Как-то в ночную смену отловили этих двоих, поговорили… Одному ломом по спине, второму челюсть свернули. После чего эта парочка быстренько уволилась и исчезла. А нет потерпевших, нет и дела…
– А дальше?
– Дальше неинтересно. Поженились с Машей. Первое время снимали квартиру, потом свою, кооперативную, построили. Денег было мало, считай, бедствовали. Потом дочка, Вика, родилась. У Маши беременность очень тяжело протекала, из девяти месяцев она, считай, семь пролежала на сохранении. Столько в больнице не держали, пришлось мне при ней сиделкой быть…
– В полном смысле?
– Это вы насчет горшков? Ну да.
– И не противно было?
– Сначала немного, потом привык. Человек быстро привыкает. Что посделаешь, если надо?
– Вы хотите сказать, – странным голосом спросила Рита, – что если бы я, к примеру, была вашей женой, и за мной понадобился такой уход…
– Дай Бог, не понадобится. Спите, Рита! А то, ей Богу, не встанем завтра…
Кузьма повернулся на своем скрипучем диване и ровно задышал. Рита еще долго ворочалась, но, в конце концов, тоже уснула…
* * *
Старик в черной рясе с капюшоном на голове медленно пересек безлюдный этот предрассветный час внутренний дворик замка, подошел к северной стене и по узкой каменной лестнице без перил медленно стал подниматься наверх. Ночная мгла еще только начала рассеиваться, ступени лестницы были едва видны, и старик осторожно нащупывал их обутыми в кожаные сандалии ступнями. Наконец он взобрался наверх, перешел на восточную стену и, встав за зубцами, стал терпеливо ждать.
Небо на востоке постепенно светлело, вот из-за дальних гор показался красный краешок, и оранжево-красный диск выкатился наружу, заполнив все вокруг радостным ярким светом. Старик подставил солнцу худое изможденное лицо и, раскинув в стороны руки, закрыл глаза. Он долго стоял так, что-то шепча и не обращая внимания на суету ожившего двора: голоса людей, скрип открывавших ворот, лязг оружия и доспехов. Ему никто не мешал: стены Монсегюра вторую ночь стояли без охраны. Только одинокий часовой приплясывал от холода на верхотуре донжона, ожидая смены; он не видел старика, да и не смотрел в его сторону.
Покончив с затянувшейся молитвой, Бертран, а это был он, тем же путем спустился вниз; во дворе замка он повернул вправо и подошел к маленькой пристройке к северной стене. Единственное крохотное окно пристройки было затянуто листочками слюды, а дверью служил полог из плотной замызганной ткани. Старик сдвинул полог и вошел внутрь.
Там он некоторое время стоял, привыкая к полумраку, а затем уверенно двинулся в угол, где громоздилась грубо сколоченная деревянная кровать. На кровати лежал человек с перевязанной холщовым бинтом головой. Он не спал и, заметив гостя, привстал на постели и сложил руки перед собой. Старик привычным жестом благословил раненого и присел на скамейку у кровати.
– Как вы, Роже? – негромко спросил Бертран, откидывая капюшон с головы. – Голова болит?
– Уже нет, Совершенный, – тихо ответил Пьер-Роже, спуская с кровати ноги, обутые в сапоги. – Только шумит немного. Я уже не теряю память, и этой ночью мне не понадобился слуга с тазом.
– Все равно тебе еще рано вставать, – покачал головой старик. – И я просил не называть меня Совершенным. Твои заслуги перед Добрыми Людьми столь велики, что ты не должен обращаться так к кому бы то ни было.
– Моя рана – царапина! Алебарда даже не разрубила шлем! – горячо возразил Пьер-Роже. – Эта, – он тронул пальцами шрам на лице, – и то была серьезнее. А я потерял право называть вас по имени после того, как проиграл сражение за камнемет.
– Его трудно было выиграть, – со вздохом сказал старик. – Их было втрое больше.
– Но мы напали на них внезапно, когда они не ждали! – возразил Пьер-Роже. – Мы оттеснили их вниз по склону и могли успеть сжечь камнемет. Мне надо было только выстроить рыцарей и кнехтов поперек тропы и преградить охране требюше дорогу наверх. Мы могли бы сдерживать их долго. Но вместо этого я, как мальчишка, бросился в драку с этим шакалом де Леви! Что мне теперь до земель Марпуа?! Я проиграл сражение…
В этот раз старик не стал спорить, и оба собеседника некоторое время сидели молча.
– Я слышал: вчера протрубили сдачу? – с горечью спросил Пьер-Роже.
– Да, – подтвердил Бертран. – В замке теперь один командующий – ваш тесть, и он так решил, – старик вздохнул. – Но он прав: если бы мы не сдались, они просто перебили бы нас камнями. А здесь женщины… Рамон вчера весь день был в лагере Юга, обговаривая условия сдачи Монсегюра. Сегодня утром должны подписать…
Старик не успел закончить, как полог на дверях колыхнулся в сторону, и в убогое жилище, тяжело ступая обутыми в кожаные сапоги толстыми ногами, вошел Рамон де Перелла, владелец Монсегюра. Поклонившись кивком Бертрану, он прошел к койке и тяжело опустился на скамью. Затем стер рукавом кожаной куртки пот со лба. И оба собеседника увидели, что с бархатной шапочки Рамона исчезла золотая пентаграмма, которую тот носил, не снимая, все эти месяцы.
– Подписали! – выдохнул Рамон и повернулся к старику. – Таких условий сдачи не добивался никто и никогда, – сказал он с нескрываемой гордостью. – Нам обещано полное прощение за все, даже, – здесь Рамон бросил презрительный взгляд на зятя, – за убийство одиннадцати инквизиторов в Авиньоне. Достаточно покаяться…
– И ты уже решил встать перед ними на колени? – насмешливо спросил Пьер-Роже.
Даже в полутемной комнате стало видно, как вспыхнуло лицо Рамона.
– Да, решил! У тех, кто не отречется от ереси и примет последнее утешение, конфискуют земли. А я стар и у меня дети! Они что, пойдут в леса, как файдиты?! Нищими?
– Многие пошли, – жестко сказал Пьер-Роже.
– Ты хочешь сказать о себе? – усмехнулся Рамон. – Ты можешь идти, можешь принимать solament и подниматься на костер. Я думаю, моя дочь не долго будет вдовствовать: она молода и красива, а я позабочусь о ее приданом.
Рамон поднялся со скамьи.
– Я не сказал вам главного, Совершенный. Мне удалось добиться отсрочки сдачи на две недели. Этого в стране Ок не удавалось еще никогда и никому. Ферье очень не нравилось такое условие, но Юг – мой старый товарищ, он настоял. Мы должны выйти из Монсегюра 16 марта, на Пасху. Вы ведь об этом меня просили?