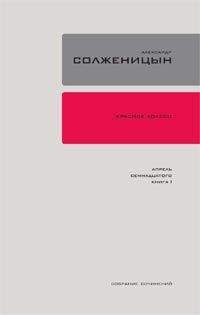Осень семнадцатого (СИ) - Щепетнев Василий Павлович
— Ах, да… Благодарю, — механически произнес он, беря из моих рук забытый на столе ювелирный шедевр.
— И еще… — добавил я финальную реплику. — Знаете, я тут читал мемуары… архивные мемуары, неизданные. Похоже, что императора Павла Петровича тоже они убили. Англичане. Конечно, чужими руками, как это у них обычно водится, но это их работа. Их замысел, их золото.
Николай Николаевич на мгновение замер в дверях. И тогда на его усталом, строгом лице появилась улыбка. Странная, быстрая, как вспышка, улыбка — словно он вспомнил что-то давнее, сокровенное и отчасти забавное. Улыбка человека, знающего нечто, недоступное другим.
— Ты считаешь? — только и произнес он мягко, почти ласково.
Улыбнулся — и вышел, плотно прикрыв за собой дверь.
Я остался один в опустевшем и ставшим вдруг огромным купе. Гул колёс под полом звучал громче и громче. Я не мог отделаться от странной мысли, которая пришла мне в голову в тот самый миг, когда дверь закрылась: мне показалось, что Великий Князь Николай Николаевич, герой войны, дядя Государя, только что подписал смертный приговор.
Мой смертный приговор.
Глава 6
21 сентября 1917 года, четверг
Гадание на жениха
— Добро пожаловать! У нас хоть и не Версаль, зато от чистого сердца, — сказал я, встречая на пороге Ольгу и Трину.
Фраза вышла почти гоголевский, и я тут же мысленно улыбнулся ее двусмысленности. Версаль… Да, конечно, не Версаль. Но разве призрак Версаля, этого символа ушедшего величия, не витал незримо над всем нашим бытом, превратившимся в странную смесь патриархальности и новейших устремлений? Мы, обитатели Александровского дворца, давно уже жили в каком-то своем, внутреннем мире, и эти слова были лишь констатацией факта, произнесенной, впрочем, с искренней теплотой.
Они пожаловали, вошли в Терем, неспешно проследовали по знакомым коридорам и наконец очутились в малой гостиной. После гибели Mama жизнь двора изменилась неузнаваемо. Штат фрейлин был решительно сокращен. Зачем, в самом деле, содержать целый рой прелестных (и не очень) барышень, если нет более Императрицы, которую им надлежало служить? Оставили каждой из сестриц по две фрейлины для компании и, разумеется, гофмейстерину, наиглавнейшую среди них, дабы поддерживать порядок. Восемь фрейлин по сложности управления приравниваются к батальону, недавно сказал граф Фредерикс. А прежний полный штат — к полку.
Гофмейстериной стала Трина, то бишь Екатерина Адольфовна Шнейдер. Нельзя же было остаться без занятия одинокой женщине, вся жизнь которой оказалась неразрывно связана с нашей семьей? Ей шел шестьдесят второй год — возраст, когда о поиске новой службы уже не помышляют. А без службы, без привычной череды приказаний и докладов, утренних выходов и вечерних представлений, она, я был уверен, быстро зачахла бы, как засыхает растение, выдернутое из родной почвы. Вот и выгуливали Трину сестрицы по очереди, словно дорогую фамильную реликвию, спрашивая то мнения почтенной гофмейстерины, то совета, а то и делясь сокровенными девичьими тайнами. И, надо отдать ей должное, ожила, совершенно ожила Екатерина Адольфовна, а то совсем было заскучала, погрузившись в пучину молчаливого горя.
В малой гостиной у меня по-домашнему хорошо, уютно. Она, малая гостиная, не так уж и мала, но и потеряться в ней было сложно, камерность обстановки располагала к доверительным беседам, а не к официальным приёмам. Усадил гостей в простенькие, но надежные стулья работы Гамбса — этот строгий, лишенный вычурности стиль всегда был мне по душе, за что отдельное спасибо Ильфу и Петрову, прославившим его на века, — и велел подать чай. Время было самое что ни на есть чаёвное, предвечернее, когда свет за окнами мягок, а мысли текут неспешно и обстоятельно.
Я сразу показал им предмет моего нового интереса:
— Взгляните, — сказал я, указывая на карту. Карта Европы и прилегающих морей у меня не просто большая — огромная, во всю стену, от пола до потолка, и флажок в виде кораблика, приколотый по данным полудня дежурным офицером, смотрелся на ней гордо и дерзко.
Её, карту, прислали из Германии, двенадцать больших листов, здесь листы наклеили на особую подложку особым клеем, вот и получилась чудо-карта. И аккуратно пристроили на стене. Чтобы приколоть флажок, нужно пользоваться стремянкой, довольно высокой, в семь ступеней. Я, по своему обыкновению, избегаю риска. На это есть дежурный офицер. Да, Papa распорядился. Цесаревичу пора привыкать к подобному окружению.
— Ледокол преодолел первые сто миль. Морских миль, — добавил я для точности.
Следил я за переходом новейшего ледокола «Святогор». Построили его по заказу нашего Морского министерства англичане, на верфях Ньюкасла. Заложили в январе шестнадцатого, и вот в сентябре семнадцатого он, с иголочки, радуя глаза свежевыкрашенными бортами, держит путь в Санкт-Петербург. Я так представляю. По первоначальным планам должен был прибыть ещё в мае, но, как водится, гладко было на бумаге. Что, впрочем, ничуть не умаляет свершения: построить самый мощный ледокол в мире за полтора года — задача, граничащая с фантастикой. Мне вспомнился печальный эпизод из двадцать первого века: модернизировали большой военный корабль. Модернизировали долго, мучительно, целое десятилетие; за это время и плавучий док утопили, и корабль успел дважды гореть, и много чего еще приключилось во время модернизации. Потратили уйму денег, а потом объявили, что корабль следует отдать на слом, мол, устарел за время модернизации. Другой построим, современный, только денег побольше дайте. Деталей я не знаю, в будущем я не цесаревич, простой паренёк, а простым паренькам знать, на что идут казенные деньги, не полагалось.
Оно и сейчас не полагалось, но сейчас я цесаревич, и знаю, что ледокол обошелся в три с половиной миллиона рублей. Наших, золотых рублей! Сумма внушительная! Но корабль плывёт, хотя моряки говорят — идёт. Корабли ходят!
— Это интересно-, — вежливо, но с легкой отстраненностью ответила Ольга. Трина же промолчала, уставившись в узор на ковре. Вступать в разговор она не решалась — этикет, даже в такой неформальной обстановке, был для нее единственной несущей опорой, и она держалась за него с трогательным упорством.
— Девочкам корабли, машины, лошадиные силы — скучно, понимаю, — продолжил беседу я, стараясь расшевелить аудиторию. — Но это, поверьте, и на самом деле интересно. Грядущей зимой его будут испытывать здесь, на Балтике, организуя проводку судов к Санкт-Петербургу. Круглогодичная навигация — это важно, Ольга, во всех смыслах. Товары, снабжение, торговля. И люди. Можно будет, представь, даже съездить в Германию на «Штандарте» не в сезон, а когда вздумается.
— Но у нас же есть «Ермак», — выказала сестра знакомство с предметом.
— «Ермака» мы отправим в Рим, — ответил я, жмурясь от приятных предвкушений. — На постоянную работу. Ему там дела найдется предостаточно.
— В Рим? То есть в Романов-на-Мурмане? — уточнила Ольга.
— То есть в Романов-на-Мурмане, — торжественно подтвердил я.
Романов-на-Мурмане, новый город, заложенный за Полярным кругом, на берегу незамерзающего, благодаря милостивому Гольфстриму, моря, любимое детище Papa. Magnum opus, ultimo opus. Но, поскольку в разговоре произносить — Романов-на-Мурмане- выходило долго и нескладно, в простонародье его почти сразу же сократили до Ромы, подобно тому, как Санкт-Петербург стал для народа Питером. Однако «Рома» звучало уж слишком непочтительно, панибратски, почти по-хулигански. И тогда в ход пошла пионерская смекалка. Ведь Рома — это, по сути Рим, так пусть и будет Рим. И вот в «Газетке» и в «Пионерке», этих летописцах новой жизни, вместо простецкого Рома герои очерков и рассказов стали говорить Рим. Во-первых, короче, во-вторых — несравненно почётнее, в-третьих — бездна романтики. «Я уезжаю в Рим, буду там служить!» — звучит? Звучит! И звучит гордо, вызывая в воображении не ледяные просторы Мурмана, а вечный город на семи холмах.