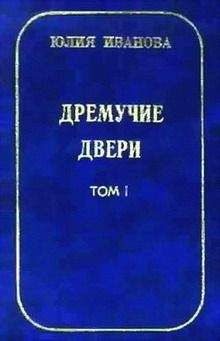Юлия Иванова - Дремучие двери. Том II
«Дармоедкой живёшь, на всём готовом?» — спросил он как-то в раздражении. И узнав, что я плачу за свои готовые обеды из столовой, несколько успокоился. Когда я переехала в город, в свою квартиру, — он был доволен: хватит бесплатного жительства… Вообще никто так упорно как он не старался привить своим детям мысль о необходимости жить на свои средства. «Дачи, казённые квартиры, машины, — всё это тебе не принадлежит, не считай это своим», — часто повторял он». /Св. Аллилуева/
«Вот какой разговор состоялся у Джиласа со Сталиным в 1944 году, в то время, когда Рузвельт и Черчилль поздравляли друг друга с ловкостью, с какой они ладят с Дядюшкой Джо:
«Вы, может, полагаете — на том только основании, что мы союзники англичан, — будто мы забыли, кто они такие и кто такой Черчилль. Им ничто не доставляет большего удовольствия, как обвести своих союзников вокруг пальца. Во время первой мировой войны они постоянно обманывали русских и французов. А Черчилль? Черчилль — это человек, который у вас из кармана копейку утащит, если вы за ним не будете приглядывать. Да, да, копейку утащит из кармана! А Рузвельт? Рузвельт не таков. Этот руку запускает только за крупной монетой. А вот Черчилль — Черчилль и за копейку готов…» /Чарльз П. Сноу/
«С его точки зрения, России предстояло самой позаботиться о себе: спасать её некому. Советской системе суждено либо выжить в России, либо погибнуть в ней. Стране необходимо полагаться на себя самоё. Эту точку зрения он завуалированно изложил задолго до революции. Высказаться до конца откровенно ему так и не пришлось, но, несомненно, что внутренняя логика его политической жизни основывалась именно на этом. С годами Сталин всё больше убеждался в том, что ни одно развитое общество не допустит революции. Централизованная государственная власть год от года делалась всё более неколебимой. По-видимому, произвела на него впечатление и приспособляемость капиталистических структур. Изначальное суждение Сталина оказалось верным.
Суждение это /или точнее — это интуитивное провидение/ наделяло Сталина целеустремлённостью и силой… Страну предстояло силой втащить в современное индустриальное государство за половину жизни поколения, иначе она отстала бы безнадёжно. Что бы Сталин ни натворил, в этом он был явно прав.
Решения абсолютные не принимались им до тех пор, пока не была выиграна битва за власть. Начать с того, что почти всё время, пока был жив Ленин, Сталин действовал осторожно. Тихой сапой он прибрал к рукам аппарат партии, пока другие либо не замечали, что он творил, либо считали это рутинной организационной работой, к какой он был пригоден. Сталин понимал больше. Он завладел партийной кадровой машиной, ибо сознавал: тот, кто управляет кадрами, управляет львиной долей государственных структур. Назначения, продвижения, смещения, понижения — тому, на чьём столе собраны все эти личные дела, и принадлежит реальная власть…
Припоминаю, как-то раз в конце 40-х годов мне довелось позвонить приятелю-чиновнику /с тех пор он сам стал важной персоной/ по поводу назначения, которое касалось нас обоих. Я упомянул Казначейство. Голос приятеля в телефонной трубке упал до почтительного шепота: «Они знают об этом ужасно много». Что ж, Сталин знал ужасно много о подающих надежды назначенцах в коммунистической партии». /Чарльз П. Сноу/
«Не теряя времени, он приступил (в какой-то мере был вынужден к тому, ибо ход подобных процессов неумолим и неизбежен, тут одна из причин, почему его враги оказались столь слабы) к величайшей из промышленных революций. «Социализм в одной стране» должен был заработать. России в десятилетия предстояло сделать примерно то же, на что у Англии ушло 200 лет. Это означало: всё шло в тяжёлую промышленность, примитивного накопления капитала хватало рабочим лишь на чуть большее, чем средства пропитания. Это означало необходимое усилие, никогда ни одной страной не предпринимавшееся. Смертельный рывок! — и всё же тут Сталин был совершенно прав. Даже сейчас, в 60-е годы, рядом с техникой, не уступающей самой передовой в мире, различимы следы первобытного мрака, из которого приходилось вырывать страну.
Сталинский реализм был жесток и лишён иллюзий. После первых двух лет индустриализации, отвечая на мольбы попридержать движение, выдержать которое страна больше не в силах, Сталин заявил:
«Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! Старую Россию… непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы или польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь».
…Мы отстали от передовых стран на 50 — 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
Доныне на это никому из умеренно беспристрастных людей возразить нечего. Индустриализация сама по себе означала лишения, страдания, но не массовые ужасы. Коллективизация сельского хозяйства дала куда более горькие плоды. Осуществление грандиозной индустриализации требовало больше продуктов для городов и меньше работающих на земле. Крестьянское хозяйство для того не подходило…
В Советском Союзе оба процесса приходилось осуществлять в одни и те же месяцы, в те же самые два-три года. С чудовищными человеческими потерями. Целый класс богатых крестьян /кулаков, то есть фермеров, использовавших наёмных рабочих/ был стёрт с лица земли… Трудно не признать: некий вид коллективизации, действительно, диктовался ходом событий. Старое российское крестьянское сельское хозяйство, по западным меркам, пребывало в средневековье.
Так что провести в ней с совершеннейшим мастерством и человечностью коллективизацию было бы непросто. На деле же её провели из рук вон плохо, хуже некуда, и современная Россия по сей день расплачивается за это.
…Только не надо думать, будто Сталин, несмотря на признание Черчиллю, воспринимал эти события как личное страдание. Люди дел и свершений, даже склонные к доброте /чего у него никто не замечал/, сделаны не из того теста — иначе они не стали бы людьми свершений и дел. Решения, затрагивающие тысячи или миллионы жизней, принимаются без особых эмоций или, если воспользоваться более точной технической терминологией, без аффекта… Так поступил Асквит, необычайно сердечный человек, утверждая решение о наступлении при Сомме в 1916 году, так поступил Черчилль во вторую мировую войну, так поступил Трумэн, подписывая приказ о применении атомной бомбы». /Чарльз. П. Сноу/
* * *
Она отвезёт благополучно Ганю с картинами к Варе, назавтра Ганя уедет учиться в Лавру, они уже не будут видеться. Иоанна снова с головой окунётся в суету, сценарные и семейные дела, лишь по ночам ей будет сниться Лужино, рыжие стволы закатных лужинских сосен, рыжий дух Альмы трётся о мокрые от росы ноги, и она с Ганей бредут рука об руку и разговаривают молча, без слов. Она будет мечтать, что весной опять напросится к дяде Жене в мансарду, и собирала для него все детективные бестселлеры, но в феврале деда внезапно увезут в больницу с инсультом. Варя будет самоотверженно выхаживать его, не отходя от койки, и вроде бы поставит на ноги, но на восьмое марта несознательные больные раздобудут спирта и устроят женский праздник. В результате — повторный инсульт.
На похороны Иоанна поехать не смогла, была на сороковины, где узнала, что дядя Женя оставил неожиданное завещание, определив полдачи в Лужине племяннику Глебу. Что многочисленная прямая родня в ярости, считает, что выжившего из ума деда охмурили «проклятые сектанты» и грозит судом.
Судиться отец Киприан не благословил и повелел от наследства отказаться, что и было исполнено к величайшему огорчению Иоанны. Хота она в глубине души и восхищалась послушанием Глеба Закону свыше, не позволяющему судиться.
Наследники, видимо, не очень-то веря в твёрдость глебовых намерений, да и не питая особого желания проводить каждое лето в совместных скандалах и препирательствах, решили дачу продать, а деньги поделить.
Прошли весна, лето. Поправки, худсоветы, съёмки, магазины, ссоры с окончательно отбившимся от рук Филиппом и свекровью, которая к старости совсем оборзела, затем в сентябре три недели с Денисом в Пицунде в доме Кинематографистов. Денис видел — что-то с ней творится, но предпочитал ни о чём не спрашивать и не будить спящую собаку. Прогрессирующая потеря интереса к жизни. К киноновинкам, книгам, разговорам, прежним знакомствам и связям. Она будто исправно играла давно надоевшую роль, с покорным равнодушием ожидая, когда же прозвучит её последняя реплика и можно будет уйти со сцены.