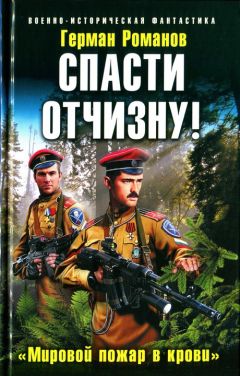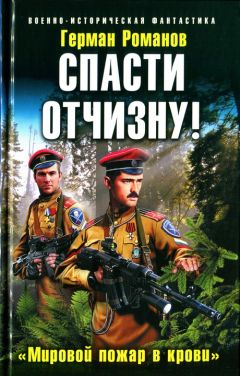Герман Романов - Спасти Москву! Мы грянем громкое Ура!
Бодр, свеж, румян — куда пропали следы, как казалось, вплавленные навечно в его лицо, многодневных запоев. Даже цвет носа стал нормальным, и вроде в размерах уменьшился. А глаза светятся молодым блеском, задорным, боевитым.
И алкогольного перегара, да что там его, даже легкого запашка Слащев уловить не мог, хотя принюхивался, только терпкий аромат французского одеколона.
Чудеса, да и только!
— Что с вами, Яков Владимирович? — спросил Май-Маевский, крепко пожимая машинально протянутую ему ладонь. И усмехнулся краешками полных губ, давая понять, что знает истинную причину удивления. — Вы меня узнаете с трудом?
— Вы совершенно неузнаваемы, Владимир Зенонович! — пересохшими от волнения губами произнес Слащев, разглядывая полную, но энергичную фигуру бывшего командарма в корниловской форме и с черно-красной фуражкой на голове.
«Ну, ежели он пить бросил и в запой больше не уйдет, то наворотит дел! Ведь корниловцы его боготворят, он с ними хоть до Бухареста дойдет, тем более до него ближе, чем до Тулы, а румыны не большевики. С последними драться намного хуже!»
Яков Александрович тяжело вздохнул. Ответ напрашивался само собою — ведь коммунисты те же русские…
Черное море
— Жестокая тряска, от которой не только зубы крошатся, но и ноги-руки ломает как спички, ибо швыряет внутри, как в шторм, и так, что палуба под ногами уходит, голова в потолок постоянно ударяется. Калеками в каждой атаке от нее становятся. Оттого и «морская болезнь» свирепствует. Один раз англичане попытались солдат в танках перевезти, так за полчаса они все «затравили», угорели и плашмя на земле лежали чуть ли не три часа — какая уж там атака?!
Из добровольцев, а ими поначалу англичане танковые части комплектовали, каждого десятого до первого боя списывали из-за травм, или сами уходили, убоявшись. А в бою еще хуже — пушки и пулеметы стреляют постоянно, дым такой стоит, что ничего не видно, глаза разъедает. От него иной раз и до смерти угорают…
Фомин продолжал говорить в полной тишине, если не считать рокот турбин. К его удивлению, не все моряки знали английский язык, некоторые часто переспрашивали своих соседей, а те тихо, сквозь зубы отвечали, показывая осторожным взглядом на Машу. Та сидела молча, но глаза были как у испуганной лани.
— На поле боя танки грозное оружие, правы англичане, когда их «сухопутными линкорами» называли. Пули от брони отскакивают, одна только беда, если только в смотровые щели поражают. Моему механику-водителю глаза вышибло, бедняга криком извелся!
Фомин сказал правду, вот только случилось это во время конфликта с китайцами на КВЖД.
— Самое страшное для танка — это пушки. Граната трехдюймовки броню прошибает, и тогда как повезет. Если в топливный бак, то хана всему экипажу — бензин либо взрывается, либо воспламеняется. Даже если кто и выжил при взрыве, один черт, даже хуже — живьем человек сгорает. Редко кто успевает дверь открыть и выпрыгнуть. Если фугасом в корпус залепят, то осколки внутри все в колбасный фарш превращают, конечности отрубают, животы вскрывают. Один раз у меня весь экипаж таким снарядом искромсало, но меня не задело. Выбрался кое-как, весь в крови, с головы до ног, кишки на комбинезоне дымятся…
Фомина передернуло от воспоминаний забытой зимней войны с финнами. Тогда ему трижды пришлось покидать подбитые Т-26, что само по себе говорит о невероятном везении!
— А потому танка всего на три атаки хватает, если враг пушки свои задействует. Горим, как спичечные коробки, от снарядов. Всего три атаки… Вот так-то, господа! Пушку, если стрельбу открыла, давить нужно немедленно. Вот только стрелять из танка то еще удовольствие. Поди прицелься, когда трясет немилосердно, а дым глаза разъедает. Палуба спонсона под ногами ходит, то небо, то земля в прицеле. Это морякам такая ситуация привычна, а вот армейским артиллеристам долгая практика нужна, да кто ж ее позволит в бою?! Стреляем с коротких остановок, ибо вставший танк очень большая и удобная мишень. Недаром англичане на первых порах танки моряками укомплектовывали, да и флот выступил инициатором их появления. Надеюсь, что и у нас такое будет, не может не быть. И скоро…
— Вы об этом так уверенно говорите? — вскинулся Остолопов. — И кто интересно… Ах, да… Как же я забыл! Простите, Семен Федотович.
— Да что вы, Алексей Алексеевич, — с горестной гримасой на лице улыбнулся Фомин. — Мы два десятка новых «Марков» от англичан получили, вот только экипажей едва наполовину хватает. Беда в том, что нет времени из добровольцев экипажи подготовить — они храбрецы, вот только учить их долго нужно. Вести в бой необученных танкистов — только приводить к напрасным потерям в людях и технике. Несчастье в том, что танки у нас есть, а вот времени для обучения новобранцев нет! А те, кто может быстро овладеть танком, предпочитают…
— Ты почему скрывал от меня этот ужас?!
Звенящий голос Маши предотвратил взрыв со стороны побагровевших от стыда и гнева моряков, ибо нет ничего худшего для русского офицера, чем обвинение в трусости, пусть даже и завуалированное.
— Три атаки до смерти, всего три атаки — и все! Либо факелом вспыхнуть, либо в мясной фарш! Всего три атаки!!! — жену буквально трясло, девушка балансировала на грани истерики. — Скажи мне правду — сколько у тебя было таких атак?!
— Не считал, — хмуро отозвался Фомин, — но всяко больше полусотни. Четыре раза горел — два раза сам выбрался и своих вынес, дважды парни меня вынесли, раненого…
— Вот видите, Мария Александровна, ваш муж же жив, — кто-то из молодых моряков попытался успокоить девушку, но та резанула в ответ, да так, что моряки побледнели.
— Это значит, что кто-то из них, из этих молодых мальчишек, сгорел в своем первом бою. Ведь так, Сеня? И ты через две недели снова в бой пойдешь?! Не пущу…
— Пойду. И отпустишь! — голос Фомина затвердел. — Ради тех сотен молодых солдат и офицеров, что могут полечь под пулеметами. Да, смерть танкиста жутка, но она спасает десятки других жизней! Это наш долг, Маша. Я мог бы устроиться в тылу, мои раны и ожоги позволяют это, и никто не упрекнет меня в трусости. Но я поведу своих танкистов в бой, поведу потому, что они должны выжить, и мой опыт им поможет. А смерть… Так в нашей смерти и крови, Маша, бессмертие России…
Жена не могла ничего сказать ему в ответ — рот беззвучно открывался, руки ее сами по себе жили беспокойной жизнью, смахнув на палубу бокал с вилкою и отбросив салфетку.
— Салфеточки, вилочки… Там люди гибнуть будут!
Девушка громко зарыдала, и смертельно побледневший, хмурый, как поздняя осень, Остолопов, бережно обняв Машу за плечи, осторожно вывел из кают-компании.
— Простите, господа, — Фомин резко поднялся, одернул тужурку и чуть наклонил голову.
Моряки, кто побледневший, кто с багровым румянцем на всю щеку, мрачно смотрели на него. Нужно было немедленно уходить, и дело за благовидным предлогом не задержалось.
— Я не знал, что моя жена понимает английский. Я пойду ее успокою, господа. Мы в отряде никогда не говорили нашим женам, каково воевать нам на танках.
Фомин резко повернулся и шагнул к переборке, искоса глядя на старшего офицера. Судя по тому, что тот жестом предложил офицерам оставаться на местах, то разговор среди моряков ожидался серьезный, тем более что капитан «Беспокойного» вышел.
И можно было не гадать, о чем он пойдет…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ДО ЧЕГО ПОРОЙ ОБИДНО…
(5 октября 1920 года)
Одесса
— Государь сейчас в Тирасполе, господин капитан. Нам приказано устроить вас в гостинице.
Молодой офицер в униформе сибирских стрелковых полков обменялся рукопожатием с Фоминым и несколько неуклюже, что говорило об отсутствии у него светского лоска, поклонился Маше.
— Я рад познакомиться с вашей очаровательной супругой. Надеюсь, путешествие по морю вам понравилось, Мария Александровна.
Несмотря на ночь, «Ермаковых» встречали в Одесском порту сразу два царских флигель-адъютанта, а на причал подали роскошные автомобили. И это не считая полудюжины солдат, что, радостно суетясь, изображали встречающих, живо перехвативших небольшой багаж, состоящий из трех чемоданов — супруги «Ермаковы» не торопились обзаводиться лишним имуществом, не всегда полезным при кочевой армейской жизни.
Первый офицер, с властным и зычным голосом, никак не меньше полковника по чину, с двумя просветами на погонах, накрытых золотой мишурой царского вензеля, обладал манерами и выправкой старого заслуженного гвардейца. Судя по высокому росту и шашке, он ранее служил в привилегированном полку «тяжелой» гвардейской кавалерии — кавалергард, конногвардеец либо лейб-кирасир.
Его имя и фамилия, придавленные весомым титулом, Фомину ни о чем не говорили. Да и в жизни, судя по всему, их обладатель, пользовался крайне редко, лишь в кругу родственников и близких друзей, ибо вышестоящие обращались к нему всегда не иначе как «князь», а для подчиненных он являлся «вашим сиятельством».