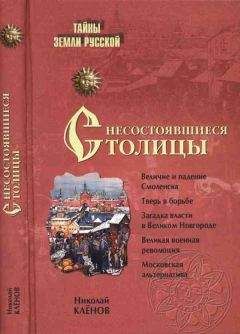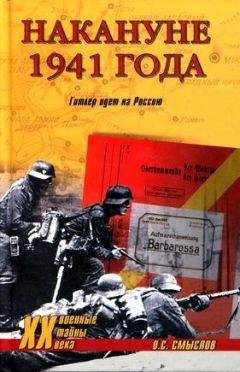Владимир Свержин - Сын погибели
Пламя костра взметнулось, точно почувствовав эту невидимую силу. Один из нищих, дежуривший у огня, так и застыл с веткой, которую он намеревался бросить в костер.
— Ишь ты.
Он толкнул своего приятеля, прикорнувшего тут же, на голой земле.
— Что… уже? — встрепенулся тот.
— Тс-с-с, погоди ты. — Он прикрыл ладонью рот товарища. — Глянь-ка на мальца.
Второй нищий тихо приподнялся и уставился на Федюню.
— Эка!
— То-то же! Вроде и спит, а вроде тело аж волною ходит! — проговорил его приятель. — Отойдем-ка подале, сказать чего хочу.
Они чуть слышно встали и, отгоняя комаров, направились за ближайший дуб.
— Я вот что думаю, — начал первый нищий. — Оно, конечно, то хорошо, что хорошо кончается, да неизвестно, как еще все сложится. Видал, как злыдень лесной корчился? Точно ядом его жгло!
— Ага.
— А амулет на шее у мальчишки видел?
— А то!
— Как есть — штука волшебная! Из тех, что эльфы в холмах прячут.
— Неужто?
— Неужто-неужто, а как иначе? Ты же сам только что видел, как мальца во сне корежит. Эльфийские вещицы — они такие, они непростые. С ними шутить не след.
— Верно.
— Вот я думаю себе: парнишка эту штуковину наверняка отыскал где-то, а то, может, и вовсе стащил, да сдуру на себя и нацепил. А так ведь что сказать — малец себе и малец. Какой из него чудодей?
— И то верно.
— Ну а коли верно, то я вот что удумал. След нам амулет без лишнего шума у мальца снять, да скоренько домой возвращаться. На такую-то знатную вещь, ей-бо-ей, покупатель сыщется. Хорошие деньги отвалит.
— Ага!
— Так я сейчас из ветки рогульку сделаю, тихонько-тихонько шнурок, на котором амулет тот висит, из-за ворота вытяну, да придержу, а ты его развяжи, да аккуратненько другой рогулькой побрякушку сдерни. Ежели что, кто зна, может, сам собой узелок распутался.
— Дело…
— Ну так, как иначе? Одно ясно — толк с этого землетопа никакой, идет себе и идет, какая нам выгода следом волочиться? — Он протянул собрату по нищенскому цеху заготовленную рогульку. — Давай! Только ты ж осторожно!
Попрошайки снова приблизились к гаснущему без свежей охапки хвороста костру и склонились над спящим Федюней.
Первый нищий огляделся по сторонам и потянулся веткой к вороту Федюниной рубахи. Он уже коснулся одежды, когда вдруг его воровской инструмент прогнулся, будто под весом, и тотчас выпрямился. А в лоб грабителя прилетело нечто увесистое и твердое.
Потеряв равновесие, он с размаху уселся на землю и увидел перед носом крошечного человечка не более дюйма в высоту, черного как уголек, с алыми, будто догорающие искры, глазами.
— Ты что это удумал? — тихо, но очень внятно проговорил человечек, демонстративно упирая руки в боки.
— Тебе до того дела нет! — огрызнулся нищий, примериваясь, как бы половчей прихлопнуть невесть откуда взявшегося фейри.[18]
— Коли совсем дурак и жизни своей тебе не жалко, то продолжай. А нет, так глянь, как оно на самом деле есть, когда чары убрать.
Он прыгнул с ветки на плечо нищего и коснулся его виска своей крошечной ладонью, и в тот же миг оба охотника за легкой наживой увидели воочию, что на шее у мальчишки вовсе и не шнурок, а черный змей с распахнутыми, выжидательно глядящими на них яхонтами глаз.
— Только коснись этого аспида, все равно — рукой ли, веткой, — и проклянешь тот день и час, когда родился на свет.
— Неужто помру? — испуганно прошептал нищий.
— Помереть, может, сразу и не помрешь, а только боль истерзает такая, что иной раз захочешь и рук, и ног лишиться, и самой головы — только бы ее унять.
— Страх-то какой, — с ужасом прошептал нищий и поглядел на своего обескураженного собрата. — Видал, каково оно?
— Ага, — подавленно ответил тот.
— Бежать отсель надо, а то как бы с нами беды не приключилось.
— Уже приключилась, раз за Кочедыжником пошли, — хмыкнул фейри. — По его воле змеи вас на краю света найдут.
— А что делать-то? Или нет сладу с демоном?
— Отчего ж, есть слад. — Фейри ухватился за мочку уха первого нищего, подтянулся на ней и примостился в ушной раковине, как в кресле. — Я вас от беды-напасти огорожу, но с этого мига вы все от точки до точки по моему слову выполнять должны.
— Да что скажешь, тому и быть! — суетливо заверил первый.
— Не тряси головой! — приказал фейри. — Я у тебя за ухом сидеть буду и что надо говорить. Сейчас, покуда не рассвело, вставай на ноги да быстро, как только можешь, беги в Самманхэртский монастырь.
— Да я ведать не ведаю, как к нему идти.
— Не идти, а бежать. О том, куда — не беспокойся. Покуда я с тобой — с пути не собьешься. Но поспешай: он хоть и недалеко, но тебе еще вернуться надо.
— Да к чему возвращаться-то?
— Не смей перечить! — Голос фейри прозвучал резко, как хлопок бича, мозг попрошайки пронзила острая боль. — Пойдешь и вернешься.
— Тебе-то это зачем?! — взвыл сквозь зубы побирушка. — Ты ж того… из полых холмов… а то вдруг монастырь…
— Не твоего ума дело, но так и быть, скажу. Иной раз такое случается, что и малому народцу против общего врага люди божьи — союзники. А потому вставай и беги. Как откроют тебе калитку, так сразу оповести, где ныне Сын погибели гнездо свое гадючье свил. Пусть глаз с него не сводят.
— Как скажешь. — Убогий быстро поднялся на ноги и, не выбирая пути, ринулся в чащу.
И тут, не дожидаясь рассвета, будто первый лучик солнца выглянул из едва озаренного краешком луны облака и, выхватывая ярд за ярдом впереди бегущего по лесу пройдохи, неотлучным поводырем увлек его за собою к воротам еще мирно спящего аббатства.
Глава 7
От идеи так же близко до идеала, как и до идиотизма.
Эрик БернВеликий князь Святослав ходил взад-вперед по светлице княжьего терема, казавшейся ему непривычно широкой. Всего несколько месяцев назад в этой горнице стоял он, понурив голову рядом с братом Мстиславом перед грозным отцом и выслушивал повеления Владимира о походе к Светлояр-озеру. Ни отец, ни брат не вернулись из того похода, и он — новый государь всея Руси — сполна ощущал тяжесть мономашьего венца.
Счастливая весть, доставленная Святославу из-за моря, что не сгинул брат, а, разбив в жаркой сече врага, стал королем в землях, от матери завещанных, немало порадовала его. Но уж как там за морем все сладится, дело второе, а здесь править лежа на боку не приходилось.
Прознав о странной кончине Мономаха, кочевники со всех сторон, точно сговорясь, решили вновь испытать крепость киевских рубежей. Но если прежде отец призывал сыновей в заветную светелку и точнехонько рассказывал, откуда ждать беды и куда полки вести, то ныне такой подмоги не было. До сего дня вражьим набегам еще получалось давать укорот, но как знать, так ли будет впредь?
Отец Амвросий — духовник княжичей с самого их крещения — наставлял молиться и исповедоваться, поражать гордыню в сердце своем, но схватка с гордыней протекала с переменным успехом, а набеги продолжались и продолжались.
— Великий княже, — в горницу вбежал государев стольник, боярин Андрей Болховитин, — беда стряслась!
— Какая такая беда? — нахмурился Святослав.
— Гонец из Тмуторокани прибыл.
— Неужто ромеи войной пошли? — Святослав грозно подбоченился, точно готовясь без промедления двинуть рать на супостата.
— Хуже того, княже. Давид, сын Олега Гореславича, касогов привел.
— Ну, касоги не ромеи, нонче же выступим. Стены в Тмуторокани каменные, высокие, ворота крепкие, князь Глеб не зря Хоробрым зовется — до нашего приходу, чай, продержится.
Андрей Болховитин понурил голову:
— Пала Тмуторокань.
— Ты что за небывальщину плетешь?! — бросился к нему Святослав.
— Гонец сказывает — изменою злой ворог в стены вошел. Будто бы от тебя к князю Глебу человек прибыл, сказал, что ты уже с подмогой близок, и велел касогов у стен встретить. Ныне дружина княжья разбита, сам Глеб жив ли — неведомо, а Давид, стало быть, на княжем столе воссел.
— Молчи! — крикнул Святослав. — Вот уж не зря говорят: «У бесхвостого волка долгая память». Добр был в прежние годы батюшка, только то и сделал — ссадил князя Олега с Чернигова, да волю дал убираться, куда глаза глядят. А оно теперь вон как обернулось… Пришло время Гореславов корень выкорчевать! Ступай, Андрей, оповести воевод — завтра на рассвете выступаем в поход супротив волчьего последыша. И не ведать мне покоя, покуда не положу я в сыру землю злобного волчонка Давидку!
— Поспеем ли к утру, княже?
— Поспейте! — рявкнул Святослав, сжимая кулаки. — Такова моя воля!
Сонный монах, ежась от предрассветной сырости, открыл зарешеченное окошко в калитке ворот. Кто бы ни был тот, кому пришла в голову мысль будить спящую обитель столь бесцеремонным образом, он был недобрым человеком. Режим монастырской жизни и без того весьма строг, чтобы по пустякам отрывать минуты сна, оставшиеся до заутрени.