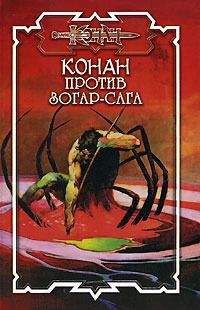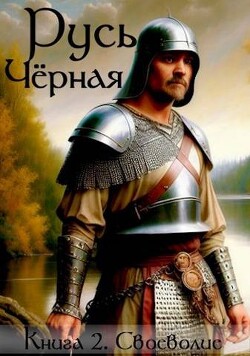Амурский Путь (СИ) - Кленин Василий
— Да уж ведал… — закряхтел Дурной топорща бороду.
— А коли ведал, то об чем и речь нам вести! Это твой Темноводный! Я токма принял и сберег. И дальше беречь буду. Но выше вести мне невмочь — глаза твово нет. Лишь ты и можешь, Сашко! Не на кого сбросить тот крест. То тягло твое: коли уж поднял — так тащи! Не смей сбегать!
Ивашка ажно встал.
— Ты ж ради нее! Ради бабы сызнова всё бросить норовишь! После того, что она содеяла, ты, будто шавка прикормленная, к ей сбечь норовишь, — надо его уже додавить! — Что ты видишь, Вещун? Что кинется она в твои объятья? Хрен тебе! Иль гордо отвернется, а ты раны свои сердешные ковырять учнешь? Нет! Не так будет. Придешь ты до нее живым укором! Стыдом о двух ногах и башке дурной! Будешь мучать ее одним видом своим: вот, мол, потаскуха, живого мужа оставила, на прочих променяла. Коль, имается у Челганки совесть, то изъест оная ей всё нутро. И всё из-за тебя. А былого уже не возвернуть. Утекла водица…
Ивашка устало плюхнулся на лавку. Дурной закаменел весь: такие думы в его башке еще не поселялись. От и нет боле старого атамана — снова квашня перед ним сидит.
— Не уходи, Сашко. Там ты не нужен никому… Разве что Араташке — заради мести. Там ты токма боль причинишь да беды принесешь. А здесь ты нужен! Нужен мне и людишкам тож! Даже, если те не видят в тебе нужды.
Дурной тихо плакал.
«Чистые слезы, — довольно таил улыбку Ивашка. — Уж теперь-то всё усвоил. Отрекся от мечтаний своих. То на пользу».
— Ну, что мне содеять, дабы решился уже?
— Не знаю… — глухо ответил Дурной. — Эко ты меня… Необычный ты человек, Ивашка. Никогда я тебя о том не спрашивал, уважал твое право таиться. Но, может, расскажешь уже… ну, раз у нас так всё откровенно… Кто ты такой?
Ивашка застыл. Лицо свело от страха сказать вслух потаенное… Но язык уже принялся извиваться, будто токма этого и ждал все эти годы:
— Крещен я был Артемием.
Глава 16
Слова не хотели итти наружу. Язык жгло от своего истинного имени. Отвык. Принудил забыть его.
— Нарекли меня в честь деда. Хотя, по святцам и не выходило. Артемий Измайлов, мож, слышал?
Дурной нахмурил свои брови косматые, но покачал головой.
«Да, откуда ему, — грустно хмыкнул Артемий-Ивашка. — Рожденному в реке…».
— Большой был боярин на Москве. Успел послужить славно. И Годунову — воеводил на южных рубежах. И царевичу Димитрию, который опосля Гришкой Отрепьевым оказался. При Василии Шуйском в ближний царский круг вошел. Резали тогда бояре друг друга без счету. А дед мой выжил. Привел владимирцев на первое ополчение. Опосля на соборе всерусском подписался под избранием Михаила Романова. И опосля не плошал: Москву от Владислава защищал, потом мировую с ляхами подписывал. Воеводствовал по Руси, инда и на Москве стоял вторым воеводою.
Слова текли уже легко и свободно, да тут Ивашка сник. Так подумать, всё самое тяжкое их род пережил. И величия достиг немалого. Но эвон, как всё обернулось.
— У деда большой терем за Москвой-рекой стоял — многие завидовали. И у первенца яво — Василия — тож свой дом завелся. А у яво уж я первенцем был… Дед во мне души не чаял. Сызмальства велел в учение отдать. Литвин меня сабелькой играть обучал, немец — латинскому да фряжскому, дьяк запойный — Слову Божию. Я совсем отроком был, когда новая свара с Речью учинилась. И дед мой в ту войну вторым воеводой над войском русским был поставлен. Заместо самого Пожарского! Про Пожарского-то слыхал, хоть?
На этот раз Дурной кивнул. Слушал он атамана с неподдельным интересом.
— Дед взял отца моего в тот поход и повелеша, чтоб и я при ём состоял. Тож учился б, значит. Та война должна была еще более возвеличить славу рода нашего. Первым воеводой стоял тогда Шеин Михайла — даже о местничестве забыли, чтоб только мудрого полководителя поставить. И войско ж было ему под стать: с пушками огромными, с полками нового строю — и наемными, и своими, русскими. Сильная рать шла в поход — и поныне, едва вспомню, сердце заходится.
Артемий Васильевич даже глаза прикрыл, дабы вспомнить те видения: величественные и грозные.
— Велел государь нам Смоленск возвернуть. Было нас — по четыре-пять воев против каждого ляха, что в граде сидели. Но Смоленск — великая крепость. Даже с тем нарядом, что имелись у моего деда и Шеина — стены те разрушить трудно. А и запасы зелья иссякали быстро, но от Москвы их подвозили плохо. После вообще подошло войско ляшское — и стали мы против силы великой! Искали победы, а обернулось всё бедою. Король Владислав нас от Москвы отрезал, припасы подходить почти перестали… Дед мой баял, что Шеин всё понимает, что отводить войско надо, покуда цело, укрепить, а потом уж ляхов бить. Но без воли царя на то не решался пойти. Гонцов слал на Москву. Да тех паскуда Черкасский перехватывал. А сам царю докладывал, что Шеин держится… Что под Смоленском всё хорошо…
Ивашка плеснул себе вина и отпил жадно.
— Он ведь сам в первые воеводы метил, Сашко. И по местническому покону ему и выходило первым идти. Токмо у Шеина опыта много больше, вот князюшку и задвинули. А тот, гнида, злобу затаил. Да не он один. А через Шеина и на наш род ненависть та перешла. Черкасский и Пожарский в ту пору, когда Владислав наши рати осаждал, новое войско собрали по воле государевой. Да так с тем воинством пять месяцев в Можайске и простояли! Двести верст пройти не могли! Не ахти какое воинство было, но нам и такое б сподобилось! Нам бы пороху да еды подвезти — мы б еще навоевали, Сашко!
Атаман грохнул кружкой по столу.
— Не пришли. И царю баяли, чтоб из-под Смоленску войско не отходило. Инда ясно вскоре стало деду и Шеину, что уже и самим нам отойти невмочь — обложил нас лях. Дело к гибели шло, а подмоги не было. Тогда и порешали воеводы с Владиславом ряд заключить. Чтобы хоть народишко спасти. Дороги полки нового строю, трудно их вновь собрать будет. По итогу, воеводы тьму людишек спасли…
— А их в измене обвинили, — вздохнул Дурной.
— Ишь ты… Слыхал, значит? Велика у нашего рода слава… Верно. И Шеина, и Измайлова Артемия. То бишь, деда. Меня-то по малолетству не тронули, а вот батюшку мово тож в чепи заковали. Мол, Василий Измайлов слова хвалебные про ляхов да литву рёк, да еще и при их! Мол, поил их, кормил, да соколиные охоты устраивал! Конечно, рёк! Конечно, кормил! Тож послы владиславовы были! Поначалу дед с Шеиным времечко тянули, всё на подмогу надеялись. А после просто речами льстивыми хотели больше выгод выторговать. Король-то ихний по итогу даже часть пушек Шеину возвернул! Вот за то, — Ивашка поднял чашку повыше, глядя под потолок. — Милость царская до нас и пришла…
— Сидели мы с матушкой, с девками малыми, да с челядью в тереме, от страху тряслись, да суда дожидались. Соседи уже за заборы поглядывали — чуяли поживу. А потом пришли кромешники… Ворвались на подворье, хватали всех без разбору. «Конец иудам-Измайловым! Режь под корень!». В дом вошли, у иных под кафтанами панцири позвякивают. Сабли в крови, всё хватают, рушат. С матушки повойник содрали, за косы схватили и на двор поволокли… Я с двумя схватился, пустил кровь иродам, да сам еле вырвался… — глаз Ивашкин начал наливаться кровью. — Слушаешь?
— Слушаю, — глухо ответил Дурной.
— По ночи, как тать, до дядьёв добрался. До одного. До второго. Те сидят, сами трясутся, грязью моей замазаться боятся. Выгнали… Дядька Семён токма денег в дорогу дал. И стал я, Сашко, никем. Швалью подзаборною. Поначалу просто бёг от Москвы подальше. От царёвой справедливости. Утекал по Волге. В Нижнем Новгороде токма задумался, како бысть. И побрел за Камень, в Сибирь, где никто меня не признает. В Томске жил, по Иртышу до степняков подымался, ратился. Пригодилась учеба литвинова. Опосля уж Енисейск и Якутск. За 20 годков всю Сибирь обошел. Ни счастья, ни покоя не обрел. Людишек повидал много, всё больше подлых и лютых. Инда мыслил: что ж не сдох я с саблей в руке подле матушки родной…
«А потом, на Амуре тебя встретил, — скосился Ивашка-Артемий на Дурнова и многозначно молчал. — Глупого, беспутного, ровно кутенок слепой. И токма ты первый и показал мне иные пути. Ничего ценнее Господь мне не посылал. Берег я тебя, берег, да не уберег… Но Господь милостив! Уж вторую удачу я не упущу!».