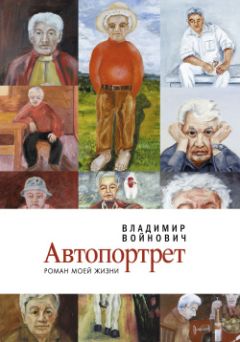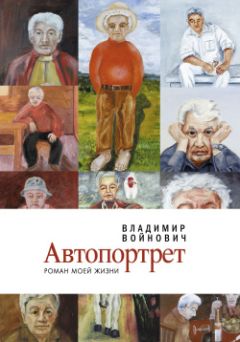Владимир Бабкин - Новый февраль семнадцатого
— За что, мой мальчик? — Спрашиваю уже понимая, что передо мной сын прадеда Георгий, который приходится мне… Да о чем это я? Какая разница какой мы воды на киселе, если для мальчишки я по прежнему отец, а память и чувства его отца сейчас во мне?
— Ты уезжаешь, не простившись со мной!
Мальчик надул губы и отвернулся в деланной обиде. Я усмехнулся и потрепал его по голове.
— Ты спал, я просто не хотел тебя будить. Я простился с тобой сквозь сон.
Георгий посмотрел на меня вопросительно:
— Ты приедешь за нами?
Смотрю в его глаза и проклинаю себя последними словами — вот что я за человек? Почему мне даже в голову не пришло, что у прадеда была семья, была жена, был сын, вот этот вот малыш. Почему размышлял я о чем угодно — о своей шкуре, о России, о человечестве в конце концов, но только не о том, что есть люди, которых я теперь должен заботиться? Что это — несформировавшаяся привычка ассоциировать себя с прадедом или отсутствие опыта нормальной семьи в прежней моей жизни?
Да, я знаю из доступной мне памяти прадеда то, что он еще вчера отдал все необходимые распоряжения об отправке своей семьи в Швецию. Знаю, что он уже попрощался с женой, графиней Брасовой, но, блин, знать-то я знаю, но вовсе не думаю об этом! Вот как так получается?
Я обнимаю мальчика и шепчу ему на ухо:
— Конечно. Ты мне веришь?
Он счастливо кивает.
— Я люблю тебя, папка… — Шепчет он, когда выбежавшая за ним дама настойчиво отрывает его от меня.
Мы встречаемся с ней глазами и, глядя на нее снизу вверх, я вдруг понимаю, что это и есть графиня Брасова, жена моего прадеда — то есть моя жена, так получается? Но, не взирая на то, что во мне сохранилась память и какие-то чувства прадеда, я все равно не чувствую к ней никаких особых любовных переживаний, да и как жену свою ее никак пока не воспринимаю.
Очевидно она почувствовала что-то такое. Ее взгляд стал удивленным, затем резко потемнел. Уж не знаю, что она там поняла, интуитивно почувствовала или вообще нафантазировала, но к моему удивлению она, не сказав ни слова, резко развернулась и, увлекая за руку Георгия, быстро уходила. Не оглядываясь.
Ошеломленно я смотрю вслед графине Брасовой, которая буквально тащила за руку мальчика, и лишь в дверях Георгий сумел извернуться и прокричать мне:
— Я люблю тебя! Возвращайся за мной, слышишь?
Дверь закрылась за ними, и я с тяжелым сердцем смотрел им вслед. Вот что можно сделать в такой ситуации?
Мрачно простояв некоторое время, и ничего не решив, я отвернулся от дворца и зашагал к автомобилю.
* * *Телеграмма генерала Хабалова Николаю II от 27 февраля № 56.
Принята: 27.02.1917 в 12 ч. 10 м. Пополудни.
ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше доношу, что 26 февраля рота эвакуированных запасного батальона Лейб-гвардии Павловского полка объявила командиру роты, что она не будет стрелять в народ. Рота обезоружена и арестована. Дознание производится. Командир батальона полковник Экстен ранен неизвестными из толпы. Принимаю все меры, которые мне доступны, для подавления бунта. Полагаю необходимым прислать немедленно надежные части с фронта. Генерал-лейтенант Хабалов.
* * * ГАТЧИНА. 27 февраля (12 марта) 1917 года.Хмурое небо. Хмурый ветер несет хмурые облака. Хмурый снег хмурыми вихрями бьет в лобовое стекло.
Хмурый Джонсон сидит рядом. Хмурый шофер хмуро рулит куда-то.
Хмурый я смотрю в окно автомобиля сквозь отражение в стекле своего генеральского погона с императорским вензелем. За окном была Гатчина 1917 года. За окном ходили люди, одетые по моде этого времени. За окном ездили какие-то сани. За окном переругивались извозчики, а их хмурые лошади щедро украшали грязный снег дороги своим хмурым навозом.
Эмоции начали возвращаться ко мне? И не захлестнет ли меня волна отходняка прямо вот сейчас, в автомобиле? Какую форму это примет? Буду ли я биться в истерике или каком-нибудь эпилептическом припадке? Успею ли убраться из Гатчины или пресловутые дюжие санитары таки доставят меня к доктору в смирительной рубашке? Сжимаю зубы, стараясь держать в узде свои эмоции.
Но на душе все равно тоскливо и отвратно.
Встреча с сыном прадеда произвела на меня очень гнетущее впечатление. Я корил себя за все сразу, не находя выхода из душевного конфликта терзавшего меня изнутри. Правильно ли я поступил, оставив семью прадеда в Гатчине? Успеют ли они уехать? С одной стороны, я знал, что в моей версии истории графиня Брасова и Георгий благополучно пережили революцию и эмигрировали, а значит, по логике вещей им ничего реально не угрожает. Но с другой стороны, я то собираюсь произвести изменения в этой реальности, и кто знает, как эти изменения отразятся на семье прадеда?
Я вдруг со всей резкостью осознал, что мир вокруг меня потрясающе реален. До этого момента, у меня в глубине сознания была какая-то подсознательная ирония по отношению к происходящему. Мол, я вот такой крутой чувак, прибывший из такого далекого будущего, по сравнению с которым все достижения науки и техники 1917 года выглядят смешными, а все страсти и надежды людей этой эпохи наивными. И, более того, я знал их историю и их будущее, а так же роль и поведение каждого из них в предстоящих событиях. Все это влияло на мое восприятие окружающего и, пожалуй, на мое решение начать менять историю этого мира.
Но именно встреча с Георгием потрясла меня. Именно она стала для меня самым шокирующим, ярким и переворачивающим сознание событием в этом мире. Не Джонсон, не графиня с ее полными боли глазами, а именно маленький беззащитный мальчик, который считал меня отцом.
Я смотрю на людей. Вокруг меня живые люди. Творя будущее, ломая настоящее и перестраивая прошлое, я никогда не должен забывать об этом.
Пожалуй, успокаивает меня лишь одно — если я успею к намеченному сроку в Могилев, и мне удастся моя миссия, то, быть может, страсти в стране удастся значительно смягчить и в этом случае революционные события минуют Гатчину стороной. А значит, выполняя свою миссию, я защищаю и семью прадеда. И лично маленького мальчика по имени Георгий…
* * * ПЕТРОГРАД 27 февраля (12 марта) 1917 года.— И вот что я вам скажу, братцы, — Кирпичников обвел взглядом строй. — В последний раз скажу. Если вы не решитесь на это, то пропали наши головушки. И ваши колебания выльются боком всем нам!
— Дык, опять ты за свое? — из строя раздался злой возглас. — Сто раз уж говорено, что мы приказ выполняли! За что им наши головушки того?
— А за то, Пажетных, что выполняя этот самый преступный приказ, мы вчера положили сорок человек революционных демонстрантов. РЕ-ВО-ЛЮ-ЦИ-ОН-НЫХ! — Тимофей Кирпичников последнее слово произнес по слогам и с нажимом. — Смекаете? Я ж вам говорю — завтра царя обязательно скинут, и придут к нам после этого товарищи из новой власти и спросят, что ж вы, суки, против революции поперли и товарищей наших постреляли? И будет нам фронт за счастье, а то и на каторгу загремим. — унтер помолчал и добавил со значением. — Если не расстреляют нас, как пособников царизма. А расстрелять могут легко.
— Дык, не пойму я, за что нас расстреливать-то? Да и по какому-такому закону расстреливать? Мы ж мятеж не поднимали! Да и решили мы уже все!
Кирпичников со злостью посмотрел на Пажетных, который продолжал сопротивляться его планам.
— А вот по законам революционного времени и расстреляют. И разбираться не будут. После победы революции стольких будут расстреливать, что там, — он махнул рукой куда-то в сторону Таврического сада, — даже колебаться никто не будет на наш счет!
Пажетных что-то буркнул, и в казарме вновь воцарилась тишина. Все мрачно обдумывали все сказанное и пересказанное за эту бурную ночь.
Собственно мрачное настроение воцарило в учебной команде с самого вечера, когда вернувшиеся с улиц в казармы солдаты учебной команды Волынского Лейб-гвардии запасного пехотного полка узнали, что далеко не все солдаты других полков выполнили приказ стрелять в толпу.
Более того, стало известно о мятеже четвертой роты запасного батальона Павловского Лейб-гвардии пехотного полка, которая отказалась выполнять приказ об открытии огня по толпе митингующих, а вместо этого открыла стрельбу по отрядам полиции и даже по пытавшимся их образумить собственным офицерам. Мятеж был жестко подавлен солдатами Лейб-гвардии Преображенского полка. Рота была арестована, однако оказалось, что размещать полторы тысячи новых арестантов просто негде — комендант Петропавловской крепости согласился принять лишь 19 человек, а потому остальных пришлось, пожурив распустить по казармам.
То есть, с одной стороны имел место вооруженный мятеж, что в условиях войны было чревато трибуналом и расстрелом, а с другой стороны к мятежным солдатам за стрельбу по полиции и собственным офицерам по существу не было применено никакого реального наказания. А это ясно свидетельствовало о неспособности властей принимать решительные меры. Тем более что кроме случая с солдатами Павловского полка было известно о других случаях отказа выполнять приказы и даже о случаях братания с митингующими, которые все так же не повлекли за собой никаких последствий. И в связи с этим возникал вопрос — а верно ли они поступили, выполнив этот самый вчерашний приказ и перестреляв сорок человек?