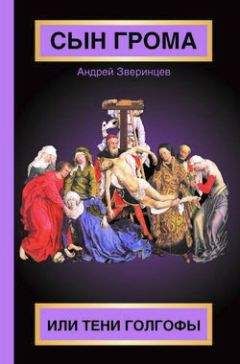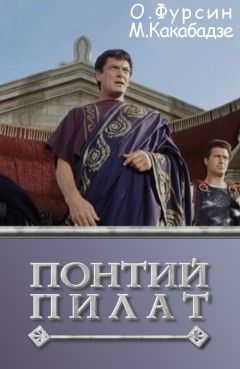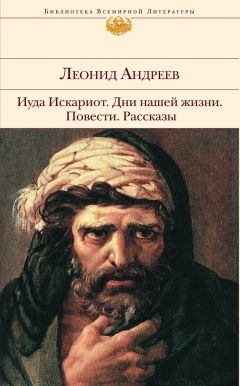Андрей Зверинцев - Сын Грома
Галл пожал плечами:
— О Пилате — пока ничего. Он далеко. Несладко друзьям Сеяна на Палатине. А у Пилата, как мне известно, два легиона отборных головорезов и три алы сирийской конницы. С ним не так просто.
Слушая Галла, Пилат заметно мрачнел.
— А что если Сеян под пыткой признался, что планировал (если он действительно собирался захватить власть) использовать легионы Пилата? — не к месту спросила у Галла Клавдия Прокула.
Раздраженный неуместными вопросами жены, Пилат строго посмотрел на жену.
Клавдия, поняв, что перегнула палку и своими вопросами усугубила и без того отвратное настроение супруга, извиняющимся тоном сказала:
— Прости, игемон. Но лучше знать, что может тебе грозить, чем прятать голову в песок.
Галл тоже заметил, как сник Пилат, узнав об убийстве Сеяна.
— Нет, — сказал он. — Не думаю, что Сеян рассчитывал на Пилата. Ты же знаешь, старина, у них там, на Палатине, клубок аспидов. Жалят того, кто подвернется. И правого, и виноватого, и сенатора, и всадника, и плебея. Один конец.
Желая поскорее уйти от неприятной темы, Пилат спросил:
— А кроме Сеяна, какие новости? Что Тиберий? Опять уединился на острове?
Галл засмеялся. Он хорошо смеялся, этот Галл. Римский оракул нагадал ему блестящую карьеру. Еще немного — и он окажется на гребне успеха. Чего Пилат, уже седьмой год правивший Иудеей, не мог сказать о себе. Прокуратор чувствовал, что крупно завяз в этой темной, враждебной Риму стране. А под крылом сирийского легата Вителлия Галл далеко пойдет.
— Вторая великая новость, а может, она и первая, — весело сказал гость, — умерла любимая змея кесаря. Он пришел ее покормить, а она мертва. Ее облепили муравьи. Их было столько, что и змеи не видно. И, мрачно постояв у сетки, Тиберий трагически произнес: «Больше всего я боюсь черни, которая вот так же облепит меня, облепит и погубит Рим…» Так что в Риме сейчас траур по змее.
Стараясь изменить свое настроение, Пилат пошутил:
— Может, послать кесарю соболезнования?
— Нет уж, — решительно возразил Галл. — Лучше не напоминай пока о себе.
Клавдия поддержала гостя:
— Галл прав, Пилат. Лучше сидеть тихо.
— Похоже, здесь уже и шуток никто не понимает. Я пошутил, — раздраженно сказал Пилат и замолчал. Потом раздумчиво произнес: — А ведь когда Сеян сватал меня в Иудею, Тиберий обещал ему в жены свою внучку. Сколько карьерных возможностей открывалось… И вот как все обернулось…
Галл неопределенно махнул рукой.
— Да. Судьба переменчива, как настроение кесаря… Но хватит об этом. Расскажи лучше о себе.
Пилат усмехнулся:
— Рассказать о себе? Легко спросить, да не легко ответить. Похвастать мне, брат Галл, увы, нечем. Темная, непробудившаяся страна. Глухо и угрюмо живут здесь люди. Замкнулись в своем Боге. У них есть их Храм, и больше им ничего не надо. Пытался понять смысл их веры — омут. Мутный, затягивающий на дно омут. И, знаешь, я испугался. Испугался их Бога.
Лихой рубака Галл опешил.
— Ты испугался? Ты, игемон, гражданин Рима, римский наместник, испугался еврейского Бога?
— Представь себе, испугался. Нет, Галл, не по душе мне сей край, не по душе… А тут еще совсем некстати Прокула — мой дельфийский оракул, моя Сивилла, солнце мое — видела неприятный сон. А сны ее — сам знаешь, как сны фараона… Вот, брат, в каком виде ты меня застал…
Клавдия с интересом слушала, что говорит о ней гостю Пилат, и всякий раз, когда он называл ее дельфийским оракулом, Сивиллой, солнцем своим, как бы в подтверждение, что все так и есть, медленно, но убедительно наклоняла голову. Едва Пилат замолчал, Клавдия сказала:
— Разреши, прокуратор, я велю накрыть к трапезе, а то все разговоры и разговоры… У Домиция, поди, голова кругом пошла от всех этих страхов…
— Ты права, права, моя Сивилла. Командуй.
Галл внимательно оглядел Пилата:
— Вот слушаю тебя, Пилат, и не нравится мне, Пилат, твое настроение.
Пилат согласно кивнул:
— И мне не нравится.
— Ты чем-то напуган?
— Напуган?.. Ты говоришь — Пилат напуган? Да. Можно, наверное, и так определить мое состояние. Напуган. Не знаю, поймешь ли ты меня, Галл, или сочтешь мои слова философскими бреднями, но с момента моей первой встречи с иудеями, когда я услышал на рассвете вой жуткой иерусалимской магрефы, которая извещает о принесении жертв их Богу, и когда тысячи иудеев, скалясь и стуча палками с городских стен на мои славные когорты, орали: «Проваливай в Кесарию, Пилат-свиноед», я жду беды. Растет предчувствие…
Клавдия, понимая, что беду Пилату предвещает ее сон, который нелегкая дернула ему рассказать, решила предложить ему иную трактовку беды.
— Видишь, как бывает иногда полезно находиться вдали от Рима. Беда тебя не задела. Я говорю о заговоре Сеяна. Тебя не тронули. И если будешь сидеть тихо — не тронут. Как я поняла Галла, казни пошли на спад. Верно, я говорю, Домиций?
— Ты говоришь верно. Казни уже прекратились.
Умный Пилат ухмыльнулся:
— Спасибо, друзья, что печетесь обо мне, что стараетесь разогнать мои печали, страхи… Готовь, Клавдия, застолье, будем веселиться… Ибо, как говорил мудрый царь Соломон, все суета и томление духа.
…После трапезы Пилат с Галлом пошли прогуляться по райскому парку прокураторской резиденции. Благоухали розы. Шумели фонтаны. По озерной глади скользили лебеди. Разгоряченный вином Домиций Галл надеялся встретить в зеленых кущах ожидающую его скромную грустную пастушку или дремлющую белотелую нимфу, но Пилат вывел его к амфитеатру, где бродячие артисты давали какое-то представление. Оказалось, что они играют трагедию Сенеки «Эдип».
Первый ряд амфитеатра всегда был свободен: вдруг прокуратор или его супруга захотят поглядеть представление. И Пилат с Галлом, удобно устроившись в тени высоченного кедра, включились в спектакль и стали вникать в содержание происходящего.
Облаченные в белые тоги шестеро мужчин представляли античный хор.
Хор вещал:
Если б я мог судьбу мою[1]
Сам устроить по выбору,
Я попутный умерил бы
Ветер, чтоб его напор
Не срывал дрожащих рей.
Пусть, не уклоняясь вбок,
Ветер плавно и легко
Гонит бесстрашную ладью.
Так и жизнь, безопасно меня
Средним пусть ведет путем.
В этот момент на сцене появился вестник, тоже в белом, но к его сандалиям были приделаны небольшие крылышки, как у Меркурия. Вестник начал вещать:
Когда, узнав свой род, Эдип уверился,
Что в преступленьях, предреченных судьбами,
Повинен он, и сам же осудил себя,
Поспешно в ненавистный он ушел дворец.
Так лев ярится на равнинах Ливии
И грозно рыжей потрясает гривою.
Лицо ужасно, взор мутит безумие,
То стон, то ропот слышны; по спине течет
Холодный пот; угрозами бушует он,
Боль глубока, но через край уж хлынула.
Себе он сам готовит участь некую,
Своей судьбе под стать. «Что медлишь с карою? —
Он молвит. — Сердце пусть пронзят преступное,
Жизнь оборвут огнем или каменьями!
Где тигр, где птица хищная, которая мою утробу выест?
Что же, дух мой, медлишь ты?»
К лицу поднес он руки. А глаза меж тем
Недвижно и упорно смотрят на руки,
Стремясь навстречу ране. Искривленными
Перстами в очи жадно он впивается, —
И вот с корней глубоких сорваны,
Два шара вниз скатились. Но не отнял рук
И раздирал ногтями все упорнее
Пустых глазниц он впадины глубокие,
Все меры перешедши в тщетной ярости.
Тут запел хор:
Нас ведет судьба: не противься судьбе!
Суета забот не изменит вовек
Непреложный закон ее веретен.
Все, что терпим мы, смертный род, на земле,
Все, что делаем мы, свыше послано нам.
Первый день нам дает и последний наш день.
Не в силах бог ни один изменить
Роковые череды, сцепленья причин.
Для любого решен свой порядок:
Его не изменит мольба. Перед судьбою страх
Многим пагубен был: убегая судьбы,
К своей судьбе приходили они.
Чу, стукнула дверь. Вот входит он,
Не видя дня, не ведомый никем,
Трудным шагом бредет.
Из-за спин хора появился царь Эдип. Вид его ужасен. Белая тога в крови. На голове лавровый венок. Глазницы его пусты. Его вид заставил Пилата содрогнуться.
Эдип:
Все кончено ко благу; отдан долг отцу.
Как тьма отрадна! Кто из небожителей,
Смягчившись, мраком мне окутал голову?
Появилась преступная в кровосмешении жена и мать Эдипа Иокаста.
Иокаста:
Сыном ли назвать тебя?
Колеблешься? Ты сын мой! Стыдно сыном быть?
Молчать не надо! Что глазницы полые
Ты отвращаешь?