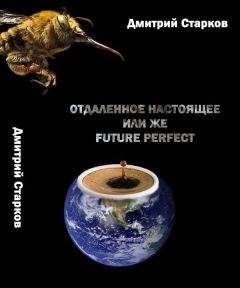Дмитрий Володихин - Доброволец
– Я Эдуард Моргаев, газетный эдитор.
– Чевось?
– Да из газеты я, Аркадия Пантелеймоновна!
– Угу. А тут тебе какая газета?
– Тут я по поручению государственной важности…
Епифаньев, сонные очи вгоняя в череп энергичными движениями пальцев, предположил:
– Либо листовки, либо портреты.
Зевок расклинил ему челюсти. Жирный хозяйский кот, наглый сибиряк с хвостом толщиной в сардельку и усами от стены до стены, глядя на Епифаньева, вдохновился и тоже зевнул, сладостно загибая кончик языка.
Эдуард Моргаев, между тем, пустился в разъяснения:
– …Доблестный дух наших молодцов не нуждается в подкреплении, но боевая память истинных героев долженствует быть увековеченной!
– Ты дело говори.
– Я уже при дверях самого дела, Манефа Аристарховна! Их высокоблагородие из ОСВАГа поручил мне…
– Откеля?
– Да из ОСВАГа же! Это присутственное место теперь такое новое.
– У, – понимающе буркнула купеческая вдова.
– Вот я по их приказанию-то и принес. Пять экземпляриев листовки, срочно подготовленной самоотверженными эдиторами газеты «Орловский вестник» и отпечатанными сей ночью, да портрет геройски погибшего генерала Маркова, очень повсюду знаменитого…
Евсеичев заметил:
– Прав ты был, Андрюха. Прав, как и все скучные люди.
– Но-но! – пригрозил ему пальцем Епифаньев.
Тем временем редактор Моргаев пустился в объяснения:
– Здесь ли имеет честь квартировать отважный поручик Алферьев? Мои дары предназначены для сего бесстрашного человека и его неустрашимых солдат.
Взводного совсем недавно повысили из подпоручиков. Новое звание одной своей непривычностью прогнало остатки сна.
– Ох, – жалостливо закудахтала Патрикеевна, – зря ж я тебе, сердечного, забидела. Встал небось, когда «кукареку» услыхал, пошел-пошел по всему городу, а тут тебе не свезло. Нету никакого поручика в доме, один только мужик крепкий, еще другой малохольный, да две малых сироты, на войну напрасно ухапленных. А поручика никоторого нет.
Евсеичев тоненько пискнул, давясь хохотом.
– Однако в рассуждении единоначалия, Агафья Парфеньевна, должен быть где-то поручик Алферьев, раз в вашем почтенном доме остановились его неистовые бойцы, а их без первенствующего лица никогда не бывает.
– Заладил мне тут, лицо, да лицо…
Я быстро натягиваю сапоги на голые ноги, штаны, гимнастерка, ремень… Уже на крыльце слышу продолжение реплики:
– …у себя повешу. Солдаты-то у меня есь? Есь. Вот им и будет трепоганда твоя. А портрет мне как раз понравился. Генерал хоть моему Ферапонту и не чета дородством, зато усами на него похожий. К тому ж за Бога храбрствовал. Пущай у меня висит.
– Да я…
– Пущай висит, я сказала! – взревела Антонида Патрикеевна, вырывая генерала Маркова из рук субтильного типчика в канотье.
Настало мое время утешить бедного журналиста.
– Господин Моргаев, – говорю я, выглядывая из-за утеса вдовицыных телес, – поручик Алферьев разместился по соседству. Если не побрезгуете, я готов передать ему ваши листовки.
Гримаса нравственных мук на лице гостя сменилась выражением долгожданного облегчения.
– Конечно же. Разумеется. Само собой. Вот-с.
Он протянул мне сверток, и не успел я забрать его, как Антонида Патрикеевна по-медвежьи основательным движением вытянула одну листовку.
– Вам и стольки хватит.
Типчик двумя пальцами коснулся шляпы и отвесил легкий поклон, адресованный пространству между мной и хозяйкой дома. Однако Антонида Патрикеевна так просто его отпускать не собиралась.
– Не суетися. Сдал мне человека на руки, и шасть? – заговорила она, не глядя на Моргаева. Левой рукой Ферапонтово солнышко держало портрет Маркова, а правой поглаживало подбородок генерала. Купеческая вдова относилась к лицу в рамке совершенно не так, как обычно относятся к фотографиям покойников, хотя бы и очень большим. Похоже, она верила, что от усопшего страдальца в мире осталась невидимая живая субстанция, отчасти воплощенная в портрете… – Ну что ж ты, голубчик, порядочной бороды не отрастил? Рожа-то почитай босая, к чему такое… Как звали-то его?
Последний вопрос вновь обращен был к газетчику.
– Да-а-а… – потянул он, морща лоб в поисках неведомого.
– Эх ты ж тля неспокойная, героя нес, а как величать, не разведал. Да что ты за человек после этого?!
– Там написано, – с оскорбленным видом ответил Моргаев, – А ваши оскорбительные и поносные слова, Антонида Патрикеевна, слышать мне обидно. И должон я раскланяться.
Однако же он не уходил, почему-то опасаясь сделать это без разрешения.
– Ишь ты, вспомнил, как меня зовут… – ехидно прокомментировала его собеседница.
– Сергей Леонидович, – сказал я.
– Как? – переспросила она.
– Его звали Сергей Леонидович.
– Спасибо, сыночек… – и, обратясь к портрету, – Ну, поживи у меня, Сергей Леонидович, не побрезгуй вдовьим домишком.
Моргаев переминался с ноги на ногу, ожидая конца сцены. Видно, не последним человеком была в городе Орле Антонида Патрикеевна.
– Как же его Бог-то прибрал?
Нимало не смутясь, газетчик ответствовал:
– Разорван бомбой.
– Бонбой? Святые угодники! Стрась какая. Ну, уготовай ему, Господи, райския кущи… – с этими словами купеческая вдова, посуровев лицом, неспешно перекрестилась.
– Теперь ступай.
Моргаев удалился неприлично скорым шагом. За щегольскими штанами в крупную вертикальную полоску тащились по уличной грязи лохмотья рванины, державшейся на ниточке-другой.
Величавым галеоном поплыла наша хозяйка в спальню.
– Иван Семены-ыч! Не в службу… прибей-ка персону у калидоре. Я тебе молоточек дам, я тебе гвоздики дам.
Так говорила она с Блохиным, нимало не стесняясь моего присутствия. И голос ее переливисто рокотал, проникая из прихожей, по лесенке, мимо в Ферапонтова кабинета, мимо ныне пустующей комнаты для прислуги, к месту расположения супружеской перины, где блаженствовал нынче наш Ванька.
– Ага! – глухо донеслось с перины.
Из гостевой, куда вдовица определила нас на ночлег, выглянули две мордахи – заспанные, бледные – будто в белой кисее, – слегка оживленные выражением любопытства. Все эти полосочки на коже, точь-в-точь как на плохо отутюженных рубахах, вызывали пугающую мысль: все-таки было у Франкенштейна потомство.
Антонида Патрикеевна, стоявшая уже на лестнице, повернулась к ним и показала потрет:
– Вот малые, глядите! Герой. На белом коне въезжал в город Катеринодар, а потом попустил Господь погибнуть ему от бонбы. Помните ж его.
Епифаньев, выйдя из гостевой в одном исподнем, медленно поклонился. И это движение источало столько искренности, столько серьезности, что Евсеичев сейчас же повторил его поклон. Не содержала биография генерала Маркова ни бомбы, ни въезда в Екатеринодар на белом коне. Однако я последовал примеру ребят: в их вере теплилось больше правды, чем в моем знании. Хорошим, честным человеком был генерал Марков. Погиб в бою.
Поднялась хозяйка на второй этаж. А я роздал ребятам по листовке в руки, одну отложив для Ваньки. Казак с Георгиевским крестом на груди, приятно улыбаясь, накалывал на пику дюжину красноармейцев; три сосенки, отпечатавшиеся на рыхлой оберточной бумаге с дурной зернистостью, обступили героя, не смея, впрочем, достичь вершинами хотя бы уровня ременной пряжки. Года четыре назад такой же казак на листовке чуть лучшего качества, приятно улыбаясь, делал низку из немецких пехотинцев, и те же сосенки хороводили вокруг него, напрашиваясь на роль бревешков для костра под человечьим шашлыком… Военно-полевая фантазия всегда слыла женщиной без затей, и белое дело особой утонченности ей не подарило. Красные работали позаковыристее: они эту постную дамочку наловчились ублажать хитро и умело.
Андрюха сейчас же принялся рвать осваговскую благодать на ленты под самокрутки.
– От спасибо, Михайла Андреич, от выручил, брат…
Скоро тезки складно засопели, будто сап их для игры дуэтом в особой тональности подбирал опытный концертмейстер.
А я заснуть уже не мог. Поклон Епифаньева растревожил меня.
С недавних пор дух мой томился и тосковал по чистоте и болел. Всякий раз, когда мысли мои уходили от повседневных дел, да приближались к чему-нибудь высокому и правильному, сейчас же на их пути совершался поворот, и дальше они устремлялись к одной недавней занозе душевной. Добирались до самого ее дома, останавливались у калитки, да так и не решались кликнуть хозяйку…
Тюк-тюк-тюк! Ванька взялся за молоток.
Наматываю портянки, беру фуражку, отворяю дверь… Марковский портрет висит на стене, а Блохин стоит рядом, но разглядывает другую картину или… или… не пойму что в тяжелой позолоченной раме. Подхожу ближе. Оказывается, это крупная открытка с изображением Новоафонского монастыря под Сухумом. То есть… под Сухуми. Ванька восхищенно комментирует:
![Пол Андерсон - Патруль времени [сборник]](/uploads/posts/books/116954/116954.jpg)