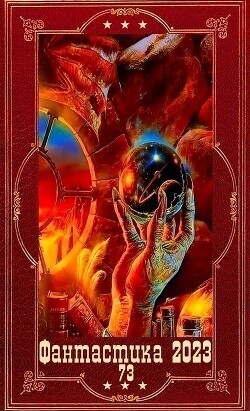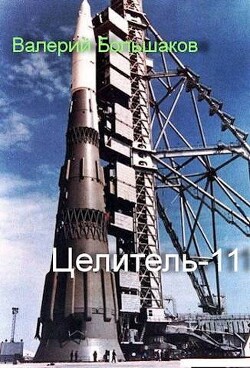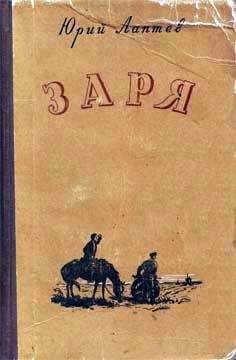Долгая заря (СИ) - Большаков Валерий Петрович
— Простите, что перебиваю, — вмешался Чебриков. — Эти данные подтверждает наш человек из обслуги Букингемского дворца. Двадцатого августа Дирлав являлся на доклад к принцу Чарльзу. Наши аналитики дружно предположили, что внезапная активность начальника МИ-6 связана… — он раздраженно повел кистью, словно устав от канцелярских оборотов, и закончил обычным голосом: — В общем, англичане каким-то образом узнали о доставке артефактов с Луны…
— … Почти, как в «Бесприданнице», — подхватил Романов, кривя рот. — Так не достаньтесь же вы никому! Ла-адно…
— Григорий Васильевич… — негромко заговорил Иванов, блеснув очками. — Я, хоть и ушел из разведки, но все еще поддерживаю связь… — он пожевал губами, словно проглатывая лишние слова, и сказал: — В Лондоне работает агент Бехоев. Он… Да, он разыскивается за кровную месть… и все равно сотрудничает с нами, контактируя напрямую с Еленой фон Ливен. Около года Бехоев состоит в группе некоего Хазима Татаревича, боснийца, всю семью которого убили в Сребренице. Цель несчастного босняка — выследить Виндзоров и обстрелять их самих минами с фосфорорганикой! Татаревичу не хватает разведданных… и той самой боевой химии.
Романов задумался. Он не хмурился, в движениях его глаз и пальцев не сквозила нервность. Президент СССР прикидывал варианты.
— Вот что… — вытолкнул он. — Обеспечьте Татаревича и разведданными, и той самой фосфорорганикой. Желательно, английского происхождения… В «Портон-Дауне» хватает страхолюдной химической дряни. Ну, и деньжат подкиньте…
— Сделаем, Григорий Васильевич! — повеселел Иванов. — Воздадим так, что короновать некого будет!
Глава 5
Воскресенье, 31 августа. День
Московская область, Малаховка
Лето угасало. Теплынь все еще накатывала, но зной и духота больше не донимали. Август как будто повел обратный отсчет: качнется маятник, отсекая полночь — и «00 ч 00 мин»…
Застрекочут первые секунды осени.
Хотя «унылая пора» не соблюдает календарь. Еще на позапрошлой неделе лес позволил себе томное увяданье — пышная зелень кое-где бесстыдно зажелтела…
Втянув носом воздух, я качнул головой — рано еще любоваться прощальными красами. Шатучий ветерок разносит смолистый дух хвои, а вот запахом прели не веет. Лето чем-то напоминает молодую женщину, не верящую, что цветенье конечно…
Аккуратно заехав во двор, я вышел из машины, и прикрыл решетчатые ворота — кованный металл приятно грел ладони.
Похоже, во мне незаметно выросло новое отношение к нашей «даче» — истинная привязанность к этому огромному домине, крепкому, как рыцарский замок, ставшему убежищем в недолгие дни космического катаклизма.
У соседей и шифер срывало, и заборы валило, «разбирало» на досочки сараи, а цитадель Гариных держалась до последнего, как утёс.
Выглядывая, не едут ли мои девчонки, я быстренько накачал воды в бак и растопил печку. Часа через два жару нагонит изрядно…
«Что и требовалось доказать!»
Даже в прошлый выходной, испорченный диверсией, когда мы с Леей отмывались от людской крови, я мечтал о бане в Малаховке. Ванная с горячей водой и набором шампуней отмоет тело, но очистить душу, снять с нее черную накипь стресса, способна лишь хорошо протопленная парная!
На той неделе нам это не удалось — сплошная кутерьма и суета. Погрузчики бодро нагружали «КамАЗы», разгребая завалы на месте фальш-ИВК, а коллектив Объединенного научного центра с директором во главе дружно генералил, наводя чистоту — мы выметали и проезд вдоль фасада, и стеклянные россыпи с торца, и старательно просеивали песок пляжа…
Лица у всех были красные от злости или, наоборот, бледные — мы же ничего не забыли! Все разговоры в курилке — как бы «наглосаксам» воздать, раз уж нам отмщение, а я всех уверял, что вражины свое получат! Хотя и сам ничего не знал толком — сжав зубы, бурлил надеждами… И ударно трудился, с метлой наперевес.
Аквалангисты из институтского клуба умудрились даже поднять со дна убойные бетонные глыбки, а бригада строителей срочно меняла битые стеклопакеты, да не простые в рамы вставляла, а пуленепробиваемые.
Работы — море! Но вот, перед самым первым сентября, я сподобился-таки заехать на «дачу», растопил баньку…
Послушав, как гудит пламя, подкинул пару поленьев, и вышел во двор. Перепад градусов невелик — тепло по обе стороны двери в предбанник. Зимой, конечно, получше бывает — выскочишь из парной, разогретый до невозможности, и в сугроб! Но и в последний день лета — хорошо…
Краснокорые сосны надменно шуршат под ветром — что им, укутанным в хвойные шубы, какая-то осень! А березки никнут плакуче, осинки и вовсе в дрожь кидает — пикируют первые листочки, трепещут бледной желтизной…
Услыхав знакомое взревыванье, я встрепенулся. По улице прокатил Наташкин джип, замерев у ворот. Красавицы мои пожаловали…
— Папочка! — зазвенел Леин голосок.
— Мишечка! — засмеялась Талия, изящно покидая место водителя.
— Мишенька! — строго поправила ее Инна и, пихнув раздумчивую Риту, заворчала: — Вылезай! Расселась…
Отряхивая опилки, я пошел встречать «четырех граций». Тихое элегическое очарование уступало место веселому, дружному шумству.
«Житие мое…»
Влезать на верхний полок я так и не осмелился — без того распалился, как Змей Горыныч. Инка с Ритой стегали меня вениками в четыре руки, а Талия, «тепло одетая» в войлочную буденовку, еще и ковшик квасу плеснула на раскаленные камни…
— Даёшь парок! — Она присела, уходя от жгучих клубов. — У-ух!
— Фу-у-у… — выдохнула Рита, ошалело мотая головой. — Миша сейчас стечет!
— Как часы у Дали! — захихикала Инна, гоняя веником тягучий волглый жар.
Из парной я буквально выполз, зато вся грязь с потом вышла, и телесная, и духовная.
До вечера было еще далеко, и Инка отправила нас с Леей в магазин — в доме не было ни хлеба, ни чая, ни овощей на салат…
Банный день не расслабил тело и дух, как бывает после тяжких трудов, а наоборот, взбодрил — я молодецки вышагивал, помахивая хрустящим пакетом с полустертой надписью «80 лет ВЛКСМ». Дочка поглядывала на меня с улыбкой, пока не прыснула в кулачок:
— Па-ап, ты так и не причесался! На чертика похож, хи-хи…
— Да? — мои пальцы изобразили расческу. — А, ладно! Так быстрее высохнут…
Лея легонько прижалась ко мне.
— Пап… Всё так здорово… Несмотря ни на что. Я иногда думаю — это в самом деле так или просто оттого, что я… Ну, не совсем взрослая еще?
Я покачал головой, выговаривая с умным видом:
— Ты уже не ребенок, Леечка. Мне тоже кажется, что все хорошо. Только вот… Понимаешь, я за жизнь накопил кучу тошных воспоминаний — достаточно, чтобы испортить любую радость, как тот деготь в бочке меда. А горизонты твоей памяти чисты…
— А это правда, что ты никогда не обманывал девушек? — осведомилась младшенькая со странной поспешностью.
— Увы, — вздохнул я, — правда.
— А почему — увы? — Леины бровки удивленно вскинулись.
— Потому что девушкам хочется порой, чтобы их обманули, — коварно улыбнулся я.
— А-а… Ну, да. — Дочкины ушки зарделись. — Пап… А, давай, никогда и ничего не таить друг от друга? Совсем! Давай?
— Давай, — согласился я, с интересом поглядывая на Лею.
— Тогда я тебе раскрою один секрет! — выдохнула она, побледнев, и пробормотала: — Нет… Я не могу так, сразу… — и тут же деланно оживилась: — А хочешь, расскажу, как узнала твою тайну?
— Хочу, — улыбнулся я.
— Ну, мы тогда в Ялте были, у Арсения Ромуальдыча… — минутная скованность покидала Лею. — Купались с Маруатой… Потом Рита с Инной в гости уехали, к тете Насте, а я в садике сидела, там, где виноград всё заплел… Ну, ты видел, должен помнить. И тут прибегает мама, вся такая смущенная: «Поехали на киностудию!» Я сразу вскочила: «Ура! Ура!» О-о, так классно было! Мы там Анну Самохину видели — она как раз пробовалась на роль Неи Холли, и Жанну Фриске — ее уже утвердили, будет играть Менту Кор. А мама начала нервничать… «Помнишь, — говорит, — Елену Владимировну?» — «Ее сиятельство, что ли? Помню, конечно!» — «Она хочет тебе что-то рассказать…» И опять она чего-то стесняется будто! Или боится… Я даже запереживала тогда! А мама отвела меня в съемочный павильон, в тот самый, где пилотская кабина звездолета. И вот кресло командира корабля разворачивается — и я вижу княгиню. «Здрасьте, — говорю, и делаю книксен. — Очень эффектно!» Елена Владимировна засмеялась, хотя глаза у нее серьезными остались, внимательными такими, и чуточку грустными. Она предложила нам сесть, и я заметила, что мама, хоть и присела, остается напряженной. А княгиня, с таким чувством: «Лея, твоя мама обещала тебе рассказать о папе… Прости, что выражаюсь так по-детски, и вообще, может показаться, что лезу не в свое дело, но, видишь ли… — тут она нервно потерла ладони, и рассердилась на себя: — Да что я мямлю! Вот же ж… Лея, веришь ли — весь день прикидывала, как мне вести себя, а сейчас подумала, что лучше всего просто быть честной…» И тут я ее сама спрашиваю напрямик: «Елена Владимировна, с моим папой связана какая-то тайна? Постыдная или позорная? Все равно ведь не поверю!» Она сразу руками замахала: «Нет-нет, что ты! У тебя очень хороший папа! Просто… Когда ему исполнился шестьдесят один год, а случилось это в две тысячи восемнадцатом году… причем, не в нашем, а в гамма-пространстве… его сознание перенесли в тысяча девятьсот семьдесят четвертый — сюда, в „Альфу“, и пересадили в юного Мишу Гарина, чтобы спасти СССР…» Княгиня словно выдохнула главное, но и после говорила долго. Рассказала про Лену Рожкову и Наташу Томину, про ментальный перенос, и… Знаешь, пап, я сразу поверила! Всё сложилось идеально, без зазоров и натягов. Я мигом успокоилась — и обрадовалась! Вряд ли смогу объяснить причину той радости… Я и жалела тебя, и восхищалась, и очень гордилась! Мы же проходили историю в школе, и мне тогда стало ясно, что учебники чего-то не договаривают. Вот закончилась эпоха Сталина. Хрущев, этот жирный троцкист, навредил, как только мог, а Брежнев, по сути, избегал сложных решений, оставался как бы арбитром. И вдруг, где-то с семьдесят пятого, всё потихоньку пошло в рост! «Партия и правительство» уже не шарахались по тупикам и глухим окольным тропам, а выводили страну на светлый путь… А я, наконец-то, поняла, кто у них был проводником! Ты, папочка!