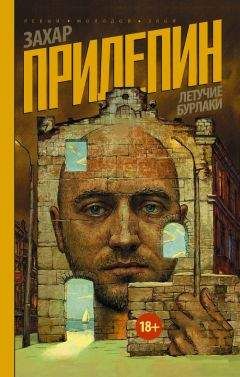Обитель - Прилепин Захар
– Ты умеешь плавать, Галь? – спросил он, чтобы не молчать.
– Монахи не умели плавать, Тём. Мне тюлений староста сказал. Чтоб не жить ложной надеждой… Монахи не умели, и нам незачем. Тут не уплывёшь. Вода – десять градусов.
Темнота пришла куда раньше, чем ожидалось.
Её словно бы доливали, как из чернильницы. Только отвернёшься – слева уже загустело; переведёшь глаза – а справа совсем мрачно.
Пока был смысл, Артём всё озирался – где же этот чёртов островок…
– Он большой, наш остров? – несколько раз спросил он Галю.
– Я не знаю, – отвечала она, но без раздражения, а тоже в раздумье и волнении.
Настало время, когда темнота приблизилась к ним в упор. Звёзд почти не было видно, одна или две появлялись изредка и вскоре пропадали. Только мотор, и шум ветра, и плеск воды.
Артём всматривался в темноту и время от времени ему мерещился лес – высокие и густые деревья, необычайной величины.
Он вспомнил, как в детстве боялся ночного леса. Какими нелепыми кажутся теперь детские страхи: сумрачные деревья – это покой, это жизнь.
Секирский маяк исчез. Кто бы мог подумать, что его пропажа могла восприниматься как потеря.
Как оказался мал человек, как слаб. И как огромен мир, огромен и чёрен.
Разве эта кромешная ночь могла сравниться с той – когда он закапывал Бурцева, весь в чужой крови?
Что с того, что закапывал – зато в землю, твёрдую землю, на которой можно стоять. И вокруг были люди, хоть и с волчьими глазами, зато всё-таки обладали рассудком – и рассудок мог сподвигнуть их к любому решению.
Например, пощадить Артёма.
К ним можно было обратиться. Поговорить с ними. Рассказать свою жизнь.
“Я не боюсь людей, – подумал Артём. – Я боюсь без людей”.
Мысль показалась ему необычайно глубокой, вмещающей невиданные смыслы.
Днём ещё можно было искать солнце и надеяться на него – но на что надеяться в слепоте?
Галя смотрела на компас, поднося его на ладони к самому лицу.
А вдруг они заплывают в огромную раскрытую пасть? Говорят, киты так питаются: раскрывают свой гигантский рот, и всё, что туда вливается, – то и есть китовая еда.
Компас-то этого не знает!
Артём всматривался вперёд до рези во лбу.
– Найди фонарь! – попросила Галя.
Артём сморгнул, сделал попытку пошевелиться и понял, что за последние часы замёрз так, что руки не может поднять.
Едва, как куль, не завалившись набок, он бестолково шарил на полу в поисках фонаря. Так ничего и не нашёл. Да и Галя забыла, о чём спрашивала. Она давила на газ, и мотор был единственным разумным и спокойным существом во всей этой пустоте.
“Я оказался здесь, – говорил кому-то Артём, – посреди холодного моря, с женщиной, которую почти не знаю. Быть может, на ней есть страшные грехи, и рок выманил её в море, чтобы утопить. Я не имею к этому никакого отношения. Я здесь случайно, сам по себе, без должной вины. Я убил отца, но был наказан за это, я ворочал баланы, меня били, пытались зарезать. Я видел смерть и был приговорён к ней, замерзал на Секирке, спал под людскими костями, я слышал колокольчик… о, если бы кто-нибудь сейчас прозвенел колокольчиком – где-то в темноте, – как бы мы устремились туда! Да, Галь?”
Он снова оглянулся на свою – кого? Подругу? Жену? Неведомую женщину с целой неоглядной судьбой за спиною.
Что же способно спасти здесь и сейчас – его, их?
Может быть, стоит произнести собственное имя – вслух: и тогда в картотеке всех человеческих имён произойдёт пересмотр и проверка – да, имеется такой, да, за этим именем стелется пройденная дорожка, а будущего у него отчего-то нет, давайте дадим этому имени, этому кровотоку, этому глазному яблоку право на завтрашний день.
“Господи, я Артём Горяинов, рассмотри меня сквозь темноту. Рядом со мной женщина – рассмотри и её. Ты же не можешь взять меня в одну ладонь, а вторую ладонь оставить пустой? Возьми и её. В ней было моё семя – она не чужой мне человек, я не готов ответить за её прошлое, но готов разделить её будущее”.
Господи?
Никого тут нет – только две судьбы, и две памяти – её и его. Влекутся за лодкой, теряя по пути то одно, то другое – какие-то слова, какие-то вещи, какие-то голоса.
Пропустили остров? Пропустили? Пропустили? Ещё бы, как не пропустить.
И что теперь?
Галя сбавила скорость, мотор работал на самых низких оборотах.
Воздух становился всё более остр, колюч, нестерпим.
Стало слышно, как Артём стучит зубами.
– Артём? – позвала Галя.
Видимо, она была теплее одета: её голос ещё звучал.
– Подыхаю, – еле произнёс он, тупо глядя на неё.
– Да ладно тебе, – ответила Галя, – даже и не начали страдать.
– А потому что я настрадался уже! – вдруг, с трудом крепя челюстями каждое слово, остервенело выпалил Артём.
Ему хотелось упасть на дно лодки, свернуться там, заснуть крепко и без снов.
– Отвернись, мне надо… помочиться, – громко попросила его Галя.
Он, еле двигая себя, перекинул ноги через лавку, сел к ней спиною.
Галя отпустила руль, мотор притих. Она очень долго возилась.
– Что молчишь? – спросила Галя. – Говори что-нибудь. Пой. Не надо молчать. Ищи водку. Там водка есть.
По звуку понял: в черпак Галя делает это.
Как странно: женщина, а из неё льётся жидкость. С чего бы. Кто мог подумать. До сих пор нельзя было даже предположить такого, глядя на Галю.
…Выплеснула за борт.
– Дай мне тоже черпак, – попросил Артём.
“Хотя водки сначала”, – мутно и замороженно решил он. Он вдруг вспомнил, куда они прибрали фляжку, полез за ней. Еле поднимая руку, выпил очень много, дал Гале. Ещё фонарь нашёл, тоже дал. Она обменяла ему на черпак.
Черпак ему всё равно не пригодился: руки ни с чем не справлялись, уд его пропал от холода – а когда полило, то попало повсюду, кроме черпака.
Догадалась об этом Галя или нет, было неважно.
Когда повернулся к ней – она включила фонарь.
Пожалуй, это было даже забавно: два синих лица в густой и влажной темноте.
Знала бы мама, в какую широту и долготу забросили сердце её сыночка.
Галя посмотрела на компас, на карту, на Артёма: они встретились глазами, как совершенно чужие люди, случайно столкнувшиеся здесь, – сейчас свет погаснет и они пойдут дальше, каждый по своим делам.
Ничего вокруг в свете фонаря видно не было: только тёмная вода.
Выключила.
– Галя! – позвал её Артём.
– Да, – ответила она.
– Скоро утро?
Водка немного подействовала: ноги точно ничего не чувствовали, зато язык ожил.
Галя не ответила: Артём шевелил языком в одиночестве, исследуя собственный рот.
Пытался подняться, потоптаться, сменить положение, но Галя велела не раскачивать лодку.
Закрыл глаза.
Кит их так и не проглотил.
Артём несколько раз задрёмывал – сон был ледяной, опасный и почти неприподъёмный, – но на кромке сознания всегда оставался гул мотора. И этот гул сливался с гулом его крови и не давал ей застыть.
Когда в очередной раз раскрыл глаза, удивился, что видеть стал резче и дальше.
Потом понял, что это утро подходит, утро возвращается.
– Галя! – позвал он, но голоса не было. – Галя! Галя! – пробовал он, и только с пятой попытки получился какой-то сип.
– Что тебе? – спросила она: у неё голос был твёрдый, бессонный – она оказалась сильной женщиной, вот ведь. – Соску?
Чтоб не отвечать, Артём просто держал руку поднятой вверх.
Ему вложили фляжку, там оставалось немного. Он всё допил.
Верилось, что утро принесёт облегчение, но получилось совсем иначе. Открывшаяся мокрая, бесприютная картина подтвердила всё то, что Артём испытывал ночью: они – нигде, никто, никому.
Что это вообще? Что это? Когда это кончится? Может, и нет больше никакой земли на свете?
Галя заставила Артёма снять сапоги. Нашла среди своих запасов портянки и ещё водки – “разотри ноги!” – велела. Ноги были совсем чужие – будто поленья, совсем белые, хоть гвозди забивай.