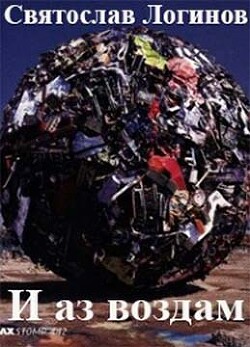Покров над Троицей. "Аз воздам!" (СИ) - Васильев Сергей
— Да я ж не иерей, — смутился писарь, — и не в храме мы…
— Для истинно верующего — весь мир — храм… Ну? — Юрко склонил голову. — У тебя есть выбор — взять на себя священническую ношу или уклониться. Решай!
Скороговоркой произнеся молитву об отпущении грехов, Иван осенил Георгия крестным знамением и вытер рукавом внезапно выступивший на лбу пот.
— Тяжко-то как…
— Нелегко, — согласился Юрко. — Свобода воли и муки выбора — щедрый подарок Господа и тяжкий крест наш, такой же, как и момент сомнений и величайшего выбора земной жизни Спасителя на Масличной горе в Гефсиманском саду. Представь только, Ваня, этот самый тяжелый час Нового завета, перед закатом. День исчезал так же, как перед Иисусом угасала вся предыдущая жизнь. Даже апостолы не понимали и не чувствовали, как от напряжения дрожал воздух. Весь мир, все живые и еще не родившиеся замерли перед этим выбором. Иисус выходит в сад. Знает, что его ждет, и может отказаться, но открывает всем смертным дорогу к Богу. Цена сделанного выбора — страдания и мучительная смерть.
— Господи, да минует меня чаша сия… — перекрестился Ивашка, — а если я ошибусь, и мой выбор окажется ложным?
— Каждый имеет право на ошибку, — решительно возразил чернец, — однако всё можно исправить, если осознать и повиниться. Петр ведь тоже предал Спасителя, отрёкся от него и мог также трагично закончить свою жизнь, как Иуда, но он покаялся. А Иуда выбрал грех, утвердился в нём, и ничто не могло его спасти…
— Я совсем забыл про это, — прошептал Ивашка, — запамятовал про отречение Петра и про его прозрение…
— Решение, принятое Господом нашим в тот вечер — момент истины, — продолжал Юрко. — Лукавый уже искушал Спасителя гордыней, властью, остался последний выбор — между жизнью и смертью. Солнце садится, а сад наполняется звоном оружия городской стражи. Но страха больше нет ни перед смертью, ни перед предательским поцелуем…
— Что я должен понять, узнав сию мудрость? — спросил Иван, остановив коня.
— Выбор наш зависит от всего, что мы слышали, видели и делали до него, — уверенно ответил Георгий, — решение Спасителя в Гефсиманском саду стало следствием всей его земной жизни. Понимая это, он посылает нам, грешным, такие испытания, предлагает таких спутников, заставляет отвечать на те вопросы, которые помогут нам сделать наш собственный выбор — единственный и главный. Вот зачем даны тебе при жизни все твои мытарства, Иван! Вот почему правильно спрашивать не «За что?», а «Для чего?».
— Истинно ли? — переспросил Ивашка, чувствуя, как голова его кружится от полученных знаний.
— Истинно, брат. Вот те крест! Бога не надо бояться, а верить в него — значит доверять…
Георгий расправил плечи и прищурился, глядя на небо.
— Однако, заговорились мы с тобой, брат Иван. Лес скоро кончится, шибче надо идти. — Он взмахнул рукой, скидывая за спину чернецкую мантию, присвистнул лихо и пришпорил гарцующего коня. — Догоняй, друже! К вечеру должны поспеть!…
* * *
(*) Зорничник — сентябрь
(**) Иисус Христос фарисеям (Мф. 23:25,26)
Глава 7
7 сентября 1380
Много тысячелетий назад на высокий холмистый берег в устье Перехвалки ледник принёс огромные камни-песчаники. Ветры-суховеи, дожди, стужа и безжалостное солнце изрядно потрудились, чтобы обточить каменные глыбы и придать им таинственный облик загадочного животного с головой медведя, взирающего пустыми глазницами на заход Солнца. Древние волхвы назвали это чудище «Каменным конем» и почитали за святыню, а саму возвышенность считали убежищем языческого бога Чура, хранителя народных традиций, правил жизни и душ наших предков.
В холодную сентябрьскую ночь года 1380-го от Рождества Христова на возвышенности, откуда на много вёрст вокруг прекрасно просматривались окрестности Подонья, Великим князем московским Дмитрием был поставлен в дозор Фома Кацибей с наказом охранять близлежащий брод и дорогу, идущую с юга.
Самое страшное на войне — привыкнуть к опасности, особенно, если накопившаяся усталость давит к земле, притупляет слух, ослабляет зрение, и стоит лишь присесть поудобнее, опереть спину о какой-нибудь камень — голова сама падает на грудь, глаза закрываются, и ратник проваливается в сон, как в черный омут.
Десяток лихих рубак — всё, что осталось от отряда Фомы после многодневных стычек с татарскими дозорами. Повечеряв, чем Бог послал, собрали они сухой валежник для сигнального костра, расположились вокруг своего атамана и всю ночь несли дозор. Чутко и сторожко всматривались ватажники в осеннюю тьму, окончательно вымотавшись к самому рассвету и задремав в причудливых, неудобных позах в то самое время, когда лучшие охотники Мамая вышли на промысел с целью тихо ликвидировать дозоры московского князя и обеспечить ордынскому войску полную секретность при форсировании реки.
Фома скорее почувствовал, чем услышал, обонял звериным, разбойничьим чутьём присутствие чужого духа, а когда открыл глаза и навострил уши — увидел мрачную, склонившуюся над соратником тень и уловил его приглушенный, предсмертный хрип.
Короткий, резкий замах, и засапожный нож врезался в шею врага, заставив завопить от неожиданности и боли. Кацибей вскочил на ноги, на ходу отбрасывая ножны меча и оглядываясь вокруг.
— Господи! Да сколько ж вас тут!
Одного короткого взгляда бывалого воина было достаточно, чтобы понять — дозор обречён. Степняки грамотно окружили, подкрались к спящим ватажникам, набросились разом со всех сторон и давили отчаянное сопротивление застигнутых врасплох сторожей.
Полоснув по спине ближайшего ордынца, сидевшего верхом над распятым под ним ратником, Фома перекатился в сторону, подбил наручем локоть еще одного врага, отмахнулся, с удовлетворением чувствуя податливость разрубленной плоти и слыша стон, повернулся на месте, отбивая поспешные уколы, прыгнул в ноги самому опасному из нападавших, вооруженному сразу двумя кривыми клинками и снизу атаковал степняка, насаживая его на свой меч, словно кролика на вертел.
Оставшиеся в живых соратники Фомы, пользуясь замешательством ордынцев, торопливо похватали оружие, встали спиной к спине, ощетинились мечами и секирами, стремясь только к одному — подороже продать свою жизнь.
— Господи! — закричал Кацибей, шаг за шагом пробиваясь к сигнальному костру и отчаянно отмахиваясь от наседающих степняков, — прости меня, грешного! Забери мою жизнь, но излей милость свою, простри на нас милосердие своё, не дай в осмеяние врагам нашим, чтоб не издевались над нами нечестивцы, не говорили, где же Бог наш, на которого мы уповаем. Помоги, Господи, христианам, славящим имя твое!! Выживу — обитель построю и до конца своих дней буду воздавать благодарность за милость твою и молить о прощении грехов моих!
— Гойда! — взревели ватажники, бросаясь вслед за своим атаманом в смертельную, самоубийственную атаку.
За спинами степняков вспыхнуло, словно вскипело кроваво-красное зарево, высветило силуэты нападавших на фоне сумрачного осеннего неба, полоснуло по глазам сторожей. Фома смежил очи, а когда открыл, взгляду его предстала совершенно иная картина: ордынцы, не пытаясь убить воинов Кацибея, разбегались во все стороны от всадника, поражающего их тяжелым кованым копьем. Прожженный опытный вояка замер на мгновение, засмотревшись на лихой танец возмездия. Оглянувшись назад, он увидел замерших соратников, а его ближний друг, уронив шестопёр, потянул пальцы ко лбу, осеняя себя крестным знамением.
Через несколько мгновений всё было кончено. Нападавшие лежали на земле, а выжившие сторожа сгрудились вокруг атамана, тараща глаза на неожиданных помощников. Второй всадник, держа в руках чадящий факел, появился чуть позже и, не мешкая, бросил огонь на валежник. Сигнальный костёр лениво занялся, затрещал, осветив совсем юные лица спасителей, облаченных не по погоде в легкие льняные сорочицы, отливающие багряным светом от сполохов разгорающегося костра.