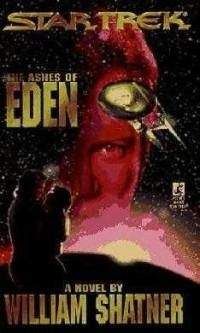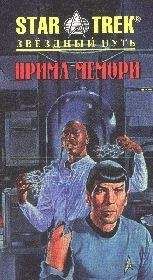Константин Шильдкрет - Розмысл царя Иоанна Грозного
Гусь трепетно бился в руках, рвался на волю. Клаша сунула за пазуху нож и уселась в лопухе у дороги. Вскоре она увидела медленно шагавшего к ней из леса Ваську.
— С гусем тешишься? — улыбнулся рубленник, поравнявшись с девушкой, и бросил к её ногам зайца. — Тёпленькой. Прямёхонько из силка.
— Зарезать некому гуся того. Ушли мужики, — пожаловалась Клаша, протягивая полузадохшуюся птицу.
Он подразнил её языком.
— Неужто гусёнка не одолеешь?
Клаша надулась.
— Всё-то вы до насмешек охочи. Моя ли вина в том, что опоганится живность, ежели её не человек, а девка или баба заколет?
Выводков звонко расхохотался.
— Аль и впрямь опоганишь?
— Отстань ты, охальник!
И сунула ему в руки птицу.
— Покажи милость, приколи ты его, Христа ради.
Холоп облапил тоненький стан девушки и увёл её за поленницу.
— Держи-ка его, милого, промеж колен. А подол эдаким крендельком подбери.
Подав свой нож, он шутливо притопнул ногой.
— Секи!
Клаша зажмурилась и упрямо затрясла головой.
— Не можно… Избавь… От древлих людей обычай тот — не резать бабе живности.
Рубленник помахал двумя пальцами перед лицом своим, творя меленький крест.
— Заешь меня леший, коли единый человек про то проведает.
Нож вздрагивал в неверной руке, пиликая залитое кровью горло гуся. Жалость к бьющейся в предсмертных судорогах жертве и страх перед совершённым грехом смешивались с новым, доселе не ведомым чувством к рубленнику.
Вытерев о лопух руки, Клаша почти с гордостью запрокинула голову. То, что мужчина в первый раз за всю её жизнь дерзко насмеялся над обычаем старины и что она с относительной лёгкостью попрала этот обычай, — вошло в неё шальным озорством и неуловимым осознанием своего человеческого достоинства.
К полудню вернулись из церкви рубленники и тотчас же уселись за стол.
Клаша подала лепёшек из коры и пригоршню лука.
Наскоро помолясь, холопи набросились на еду.
— Погодите креститься, — лукаво предупредила девушка, — ещё для праздника похлёбку подам с гусем да зайцем.
Её вдруг охватило мучительное сомнение.
«Абие набросятся на меня!» — подумалось с ужасом.
Васька ободряюще подмигнул и показал головой на рубленников, вкусно прихлёбывающих похлёбку.
После трапезы холопи вышли на двор и, зарывшись в сене, заснули.
* * *
Прямо из церкви Симеон прискакал в новые хоромы свои с гостем, князь-боярином Прозоровским.
Гость, поражённый, замер на пороге обширной трапезной.
— Каково? — кичливо шлёпнул губами хозяин.
— Доподлинно, велелепно! Мне бы умельца такого — ничего бы не пожалел.
И с опаской провёл по крышке стола, на которой были вырезаны искусно стрельцы, преследующие ушкалов[43] татарских.
— А не сдаётся тебе, Афанасьевич, что смерд твой с нечистым спознался?
Ряполовский вобрал голову в плечи и подавил по привычке двумя пальцами нос.
— Споначалу сдавалось. Токмо у того оплечного образа крест целовал холоп на том, что споручником ему — един Дух Свят.
Он развалился в дубовом кресле и ткнул с важной небрежностью пальцем в ларец.
— Трёх холопей наидобрых отдам, коли откроешь потеху.
Насмешливая улыбка шевельнула гладко приглаженные усы Прозоровского. Он уверенно рванул крышку, но тотчас же отскочил в страхе.
— Пищит!
Князь побагровел от гордого самодовольства и заложил победно руки в бока.
— И мне сдаётся — пищит!
Гость вытянул шею и приставил к уху ладонь.
— Пищит, Афанасьевич!
— И то, Арефьич, пищит!
Хозяин придвинул к себе ларец, отогнул нижнюю планку и нажал пружину. Что-то зашипело внутри по-гусиному, попримолкло и разлилось мягким бархатным звоном. Из приподнявшейся крышки ящика высунулась игрушечная голова скомороха.
Прозоровский бросился в сени. В суеверном ужасе он зачертил в воздухе круги и, не помня себя, закричал:
— Не нам, не вам, — диаволовым псам, а нашему краю — яблочко рая! Унеси! Богом молю… Не нам да не вам… Христа ради сгинь, окаянный!
Симеон захлопнул крышку.
— Мы ещё и не такие умельства умеем. Ты бы показал милость, Арефьич, в опочивальню б зашёл.
Гость просунул голову в дверь и угрожающе сжал кулаки.
— Не унесёшь антихристовой забавы — абие скачу к себе в вотчину!
И отпрянул в угол, когда Симеон, не скрывая торжествующей радости, поплыл с ларцем из трапезной.
— Садись, Арефьич. В скрыню потеху упрятал яз. Да ты опамятуйся.
Унизанная алмазами тафья сползла на оттопыренное ухо хозяина. В беззвучном смехе вздрагивали дрябленькие подушечки под глазами и волнисто колыхалась убранная серебристою паутинкою борода.
Они уселись на широкую лавку, наглухо приделанную к стене.
Арефьич приподнял тафью и вытер ладонью лысину.
— Был Щенятев у Курбского.
Симеон торопливо приложил палец к губам.
— Неупокой-то у меня сгинул. Думка у меня — не он ли в подклете в те поры шебуршил.
Прозоровский поджал жёлтые тесёмочки губ.
— Других холопей сдобудешь.
— Не про то печалуюсь. Боязно — вот что. Не подслушал ли молви он нашей да на Москву языком не подался ли?
Гость вылупил бесцветные глаза и крякнул от удивления.
— Ты и не ведаешь ничего? — И, рокочущим шепотком: — Пришёл тот Неупокой к Матвею Яковлеву, дьяку.
Симеон вздохнул так, как будто только что миновал неизбежную, казалось, погибель.
— К Яковлеву, сказываешь, дьяку? — Он откинулся к стене и по-ребячьи подбросил ноги. — Эка ведь могутна Москва, и колико в ней разных дорог, а угодил так, пёс, куда положено.
Прозоровский степенно разгладил бороду и с расстановкой откашлялся:
— А и к Мирону Туродееву угораздил бы, — одна лихва. А и у Кобяка да у Русина — тоже не лихо нам. Что пчёл в дупле, то и людей наших на той Москве. — Хихикнув, Арефьич уже громко прибавил: — Взяли в железы Неупокоя да на дыбе косточки разминали. Чать, уставши с дороженьки молодец. А и с дыбы спустивши, порадовали: дескать, ходит слух от людишек — спознался ты, смерд, со языки татарские.
Они по-заговорщичьи переглянулись и, кривляясь, прищёлкнули весело пальцами.
— Будет оказия — спошлю Матвею в гостинец мушерму чистого серебра.
Арефьич дружески похлопал хозяина по колену.
— Будет оказия! Така, Афанасьевич, оказия будет…
Он встал, неслышно подвинулся к двери, с силой толкнул её и, убедившись, что никто не подслушивает, растянул губы.
— Курбской к Володимиру Ондреевичу захаживал.
— Да ну?
— Вот те и ну! И не токмо захаживал, а и крест обетовал целовать от земских бояр.
Тяжело отдуваясь, Симеон встал и отвернулся к окну. Тычки его зубов выбивали мелкую дробь; по спине будто суетливо скользил развороченный муравейник, а пальцы отчаянно колотили по оконному переплёту.
Гость заёрзал на лавке.
— А ежели лихо — не кручинься: уйдём на Литву.
Передёрнувшись гадливо, он грохочуще высморкался.
— Краше басурменам служить, нежели глазеть на худеющие роды боярские. — И, выкатывая пустые глаза, стукнул по лавке обоими кулаками. — Не быть жильцам[44] выше земщины! К тому идёт, чтобы сели безродные рядом с князьями-вотчинниками! А не быть!
— А не быть! — прогудел клятвенно в лад Ряполовский. — Живота лишусь, а не дам бесчестить рода боярского!
Арефьич притих и скромно опустил глаза.
— Живот, Афанасьевич, покель поприбереги, а сто рублев отпусти.
Весь пыл как рукой сняло у хозяина.
— Исподволь, Афанасьевич, для пригоды собирает князь Старицкой казну невеликую. Авось занадобятся, упаси Егорий Храбрый[45], и кони ратные да пищали со стрелы.
— Где же мне таку силищу денег добыть?
— А ты ожерелье… Да не скупись — не для пира, поди.
И, запрокинув вдруг голову, повелительно отрубил:
— Володимир Ондреевич, Старицкой-князь, показал милость мне, Курбскому и Щенятеву изоброчить оброком бояр для притору[46] на Божье дело.
Сутулясь и припадая немощно на правую ногу, поплёлся Симеон к подголовнику за оброком, коим изоброчил его Старицкий-князь.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Пользуясь властью старосты, Васька посылал Онисима на такие работы, в которых принимал участие сам, и неотступно следил за каждым шагом его. Он знал, что веневский отказчик бродит по округе, подбивая холопей идти в кабалу к тульским боярам, и не надеялся на старика, обезмочившего от лютой нужды.
— Не выдержит, — скрипел зубами староста, испытующе поглядывая на Онисима, — продаст Клашеньку в кабалу.
Каждый раз, когда неожиданно исчезали из деревушек парни и девушки, Выводков твёрдо решал пасть князю в ноги и вымолить согласие на венец.