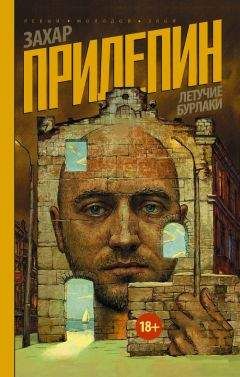Обитель - Прилепин Захар
Зато в толпу влез беспризорник и, не забывая кричать то “Ам, кулёшика!”, то “Куада, а мне?” – вцепился уродливой своей рукой – ладно бы пятью – четырьмя пальцами – Артёму в едва отросшие волосы, соскабливая кожу с его головы под свои грязные ногти, – как будто Артём и был этим, наконец обнаружившимся, кулёшиком, который нужно было поделить.
Кричали так, словно все расползшиеся вчера гадкие грехи сползлись в Артёма и заселились в нём, – а значит, могли вернуться к любому из его соседей: кому в ухо юркнуть, кому зарыться в пупок, кому в ноздрю нырнуть.
…Этого нельзя было допустить – чистоту души надо стеречь и охранять…
“А ведь правда забьют!” – ещё раз, всё с тем же почти даже смешливым чувством, понял Артём.
Только сердце прыгало внутри его, как отдельное, живое и несогласное: тебя, может, и убьют, а меня? меня за что? пусть тебя бьют, а меня выпусти!..
Не хватало лишь одного сильного удара куда-нибудь в темя, чтоб жизнь отцепилась наконец и понеслась – теряя на лету последние перья, со слезящимися глазами, с лёгкими, полными нового воздуха.
Ангел Артёма сидел на его нарах, пересыпал наскобленную извёстку из ладони в ладонь, как дитя в песочнице.
– Шакалы, мать вашу, по местам! – заорали красноармейцы. – Быстро, бля, шакалы!
Кому-то угодило в спину прикладом, кому-то в пузо сапогом.
Артёма оставили вмиг – он лежал один, так и держа руки на голове, прилипшие к вискам и затылку, оттого что всё было в крови.
– Куда спешим? – спросил чекист в своей кожанке, оставшийся стоять у входа со своим колокольчиком – верно, побоялся его поранить и разбить в сутолоке. – Разве мы плохо вас лишаем живота? Думаете, мы сами не успеем, если вы не поможете, граждане?.. В конце концов, есть какой-то порядок, очередь – зачем толпиться?
Голос его снова выдавал хмельную и оползающую улыбку – белое с пюсовым – на лице.
– Они тут богу молились! – вдруг громко пожаловался беспалый беспризорник.
Чекист перевёл взгляд на Зиновия.
– Зиновий, пёс волосатый, надумал отречься?
– От Антихриста, – сказал, как плюнул, батюшка.
– Ну, жди, пока мы твою паству доедим, – согласился чекист.
– Я ещё посмеюся вашей погибели, – вдруг ответил батюшка Зиновий громко и уверенно.
Чекисту, впрочем, не было интереса продолжать разговор – достав бумагу из кармана и расправив её в воздухе, он спросил:
– Горя… И! Нов… Артём!.. который тут?
Батюшка Зиновий полз за Артёмом вслед, пока его вели:
– Прости меня, сыночка мой! Прости!
Артём оглянулся растерянно: о чём это он? Чего хочет? Всё разом перестало быть забавным.
Мир приостановился, сознание обратилось в холодец, сердце с бешеной силой погнало кровь в голову, свежие ссадины закровоточили ещё жарче и обильней. Спина покрылась холодным потом. Ещё пот немедленно обнаружился меж пальцев ног и рук, под подбородком, в паху – Артёма словно извлекли из ледяного подвала – к столу.
“А если простить? – ещё раз оглянулся Артём на отца Зиновия. – Что-то изменится?.. Меня не дали убить здесь, чтобы что?.. застрелить – там?”
Со скрежетом закрыли дверь за спиною, в лицо пахнуло свежим ветром с моря, еловым запахом, вскопанной землей, чего-то недоставало в мире… но это отсутствие не означало погибели… и напротив, напротив – таило в себе невиданную, нежданную, снизошедшую надежду.
Артём поискал глазами – что изменилось, что?
Надо было срочно, пока не поздно, найти, что изменилось.
Света было очень много – он давно не видел дня, но при чём тут свет.
Секирная гора стояла на месте, небо двигалось над лесами и озёрами, чёрный пёс вертелся у конуры, то и дело взбадривая позвя… – Артём выдохнул —…кивающую цепь.
– А колокольчик? – тихо спросил он. – Где мой колокольчик?
Чекист оглянулся на него и толкнул шагавшего рядом красноармейца:
– Ты смотри, какая цаца! Подай ему выход с музыкой!
Они захохотали весело, как собачья стая. Нестерпимо воняло сивухой и табаком.
Артёму указали на телегу и, равнодушные к его последующей судьбе, сразу обрадовали:
– В монастырь поедешь, закончилась твоя командировочка, извини, не доглядели. Документы у сопровождающего.
У Артёма не было сил рассмеяться – менее минуты назад он дал бы отрубить себе руку и согласился бы на вечное позорное рабство у любого хозяина за одно право жить, – а сейчас, едва дождавшись, когда смышлёная, сразу всё, раньше человека со всем его нелепым рассудком, понявшая кровь сползёт из головы вниз по височным жилам и сонным артериям, он уже осознавал только холод.
Холодно, холодно, холодно – дрожало и дребезжало его тело, ветер дул со всех сторон, в носках и подштанниках было совсем неприветливо, стремительно натёкший пот застывал, уже понемногу подсыхающая на роже кровь не грела.
Он с трудом – рёбра скрипели, колено не сгибалось – уселся, собрал охапку сена, настеленного на телегу, прижал её к себе: может, оно спасёт?
Нет.
– Эй, – позвал он красноармейца; голос был чужой, челюсти – тугие, еле двигающиеся. – Погреться бы…
– А вертайся в церкву, там тепло, – оскалил кривые зубы красноармеец и долго смотрел на Артёма, с наслаждением дожидаясь ответа, – он давно уверил себя в своей силе и праве считать лагерников за тупой скот, который и ответить находчиво не сможет.
В случае с Артёмом так оно и было.
Явился сопровождающий – детина, щетина.
– Куда уселся, шакалья морда? – спросил.
Артём спрыгнул: снова жахнуло в затылок от боли: показалось, что коленная чашка чуть не выпала на землю.
– Н-но! – прикрикнул красноармеец; телега покатилась, собака залаяла.
Артём огляделся и понял, что ему надо за телегой бежать, иначе его оставят здесь, и здесь же, чуть позже, закопают.
Он заковылял, из глаз брызнули слёзы, мешаясь с кровью и пробивая в подсохшей корке новые дорожки. Собака залаяла ещё злей.
Ничего не соображая, пристанывая и бормоча, он торопился изо всех сил и всё равно не поспевал. На счастье случились ворота: пока их открывали, Артём догнал телегу.
Но дальше началось то же самое – ещё минута такого бега, и он бы завалился без сил, и передвигаться смог бы разве что ползком.
Из лошади посыпались горячие яблоки. Артём тут же наступил ногой в одно, почувствовал мягкое тепло.
– Тпру! – вздёрнул вожжи сопровождающий.
Оглянулся на Артёма, хотел снова заругаться, но было лень, и посоветовал лениво:
– За телегу держись, шакал.
Артём схватился за телегу.
Красноармеец отвернулся, и Артём тут же, как в детстве, завалился на телегу животом, свесив ноги – вроде и не едешь особенно, но и не бежишь, всегда можно соскочить и сделать вид, что ничего такого не было.
Красноармеец не слышал теперь ни поспешающего топота арестантских ног, ни рвущегося и свистящего дыхания, но делал вид, что не замечает этого.
И не оглядывался.
Он был добрый человек.
“Как я мог подумать, что меня сегодня не станет?” – думал Артём, разглядывая уши и затылок красноармейца.
…Немного согрелся, пока бежал.
На ступне подсыхал лошадиный навоз.
Кровавая размазня на лице окончательно ссохлась, ветром овеваемая. Если улыбался – с лица опадал сразу целый кусок красно-чёрной извёстки. Он улыбался.
“…Если б святые… под своей извёсткой… умели улыбаться, – в дробной скорости движения телеги думал Артём, – может быть, тоже… их лица… были бы нам лучше видны…”
В майском или июньском мареве соловецкий монастырь, на подходе к нему, мог напомнить купель, где моют младенца. В октябре под сизым, дымным небом он стал похож на чадящую кухонную плиту, заставленную грязной и чёрной посудой, – что там варится внутри, кто знает.
Может, человечина.
От Никольских ворот Артём добрёл пешком – в бумаге значилось, что его определили в духовой оркестр.
Вид у него был, даже по соловецким меркам, редкий – грязные, рваные подштанники, носки в лошадином навозе, пиджак – весь в крови и тоже рваный, кусок чёрной простыни торчит из-за пазухи, грудь, живот и ноги присыпаны соломой, морда кровавая, одичавшая, нос распух, одно ухо больше другого – не притронуться…