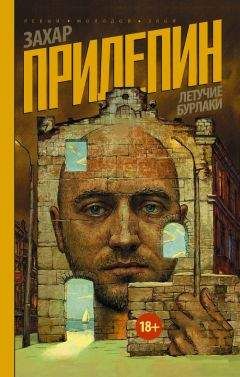Обитель - Прилепин Захар
– Артём, вы слушаете? – окликнул его Василий Петрович.
– К чёрту бы вас, – с трудом ответил Артём. – Давайте есть скорей. Где наши хозяева? Как вы сказали – Мезерницкий?
Первым пришёл Бурцев – он кивнул Артёму как доброму знакомому, хотя, странная вещь, за полтора месяца они не перекинулись и несколькими словами – всё как-то не приходилось.
Но эта обустроенная келья разом сближала попавших сюда: они чувствовали себя как бы избранными и приобщёнными – к чистой пище, к выметенному и свежевымытому полу, к сияющей подушке, к чистой скатерти и фарфоровой собачке.
Бурцев, знал Артём по рассказам Василия Петровича, после Гражданской работал в варьете, потом где-то на административной должности. Обстоятельства своего ареста не особенно раскрывал.
По большей части он помалкивал; если выпадало время – почитывал что-то незатейливое из монастырской библиотеки, но Артём успел заметить и удивиться, что, если в присутствии Бурцева заходила речь о чём-то любопытном или кто-то рисковал обратиться непосредственно к нему, он несколько раз поддерживал разговоры на самые разные темы: от хореографического искусства Дункан и отличий Арктики от Антарктики до писем Константина Леонтьева к Соловьёву и очевидных преимуществ Брюсова над Бальмонтом – эту тему, естественно, Афанасьев затеял. В последний раз Бурцев подивил Василия Петровича неожиданными знаниями о ягодах и охоте, сообщив, что там, где растёт морошка, стоит охотиться на белую куропатку, а где брусника – искать глухаря; хотя неподалёку от брусники можно встретить и медведя тоже. Василий Петрович так искренне смеялся вполне серьёзному замечанию про медведя, что Бурцев имел все шансы попасть в ягодную бригаду – но он сам не захотел.
Находившийся рядом Сивцев, заслышав разговор, вдруг вспомнил, как на фронте видал медведя, приученного артиллерийской ротой подавать снаряды, но его по ягоды Василий Петрович не взял; да и Бурцев тему о медведе не продолжил.
Втайне прислушиваясь к неспешной речи Бурцева, Артём уяснил для себя, что морошка созревает наоборот: из красной в янтарно-жёлтую, и мужские цветки у неё дают больше ягод, чем женские, а брусника может пережить иной дуб – оттого, что живёт по триста лет.
Про Брюсова и Бальмонта Артёму было бы ещё любопытнее, чем про ягоды: Бальмонт был единственный поэт, приятный его матери; однако к Бурцеву он до сих пор так и не решился подойти. Всё это казалось нелепым – поесть трески и после, прогуливаясь вдоль нар, вдруг поинтересоваться: вот вы здесь накануне вели речь о символистах…
Притом что, в сущности, Бурцев казался неплохим человеком; и при некоторой своей внешней отчуждённости и хмурости на днях даже подпел Моисею Соломоновичу еврейскую песню – так что сам Моисей Соломонович замолчал от удивления.
– Мезерницкий уже идёт, велел накрывать на стол, – сказал Бурцев. – Где тут у него…
Бурцев открыл деревянный крашеный ящик возле окна – Артём сразу ощутил запах съестного.
– У нас сегодня шпик с белым хлебом, – сказал Бурцев просто.
– Вы ведь неплохо знаете друг друга? – спрашивал тем временем Василий Петрович то ли Бурцева, имея в виду Артёма, то ли наоборот: в итоге они оба ещё раз со спокойной симпатией встретились глазами – и в этом кратком взгляде содержалась и молодая тёплая ирония по отношению к суетливому старшему товарищу, и сама собой разумеющаяся договорённость о том, что объяснять Василию Петровичу причины их не очень близкого знакомства незачем, тем более что они никому не известны – так получилось.
– Это Артём, – не уловивший перегляд, продолжал Василий Петрович. – Добрый, щедрый и сильный молодой человек, ко всему прочему, отличный грузчик, тайный ценитель поэзии и просто умница; вы сойдётесь!
Артём, всё время представления смотревший в стол, скептически пожевал пустым ртом, но на Василия Петровича всё это мало действовало.
– Наши Соловки – странное место! – говорил он. – Это самая странная тюрьма в мире! Более того: мы вот думаем, что мир огромен и удивителен, полон тайн и очарования, ужаса и прелести, но у нас есть некоторые резоны предположить, что вот сегодня, в эти дни, Соловки являются самым необычайным местом, известным человечеству. Ничего не поддаётся объяснению! Вы, Артём, знаете, что зимой на лесоповале здесь однажды оставили за невыполнение урока тридцать человек в лесу – и все они замёрзли? Что трёх беспризорников, убивших и сожравших одну местную соловецкую чайку, с ведома Эйхманиса поставили “на комарика”, привязав голыми к деревьям? Беспризорников, конечно, вскоре отвязали, они выжили – но у них на всю жизнь остались чёрные пятна от укусов. О, наш начальник лагеря очень любит флору и фауну. Знаете, что здесь организована биостанция, которая изучает глубины Белого моря? Что по решению Эйхманиса лагерники успешно разводят ньюфаундлендскую ондатру, песцов, шиншилловых кроликов, чёрно-бурых лисиц, красных лисиц и лисиц серебристых, канадских? Что здесь есть своя метеорологическая станция? В лагере, Артём! На которой тоже работают заключённые!
Артём пожал плечами, он был не очень удивлён – ему было почти всё равно: комарики, лисицы, метеостанция… Вот сметанка с лучком!
– Хорошо, а вы знаете, – сказал Василий Петрович, – что в бывшей Петроградской гостинице, которая за Управлением, на первом этаже живут соловецкие монахи из числа вольнонаёмных, а на втором – чекисты. И – дружат! Ходят друг другу в гости!
– Так белые люди приплывали в новую землю и поначалу ходили в гости к аборигенам, а потом, если те не изъявляли желания креститься и делиться золотом, жгли их селения и травили собаками… которых, надо сказать, индейцы никогда не видели – представьте ужас этих дикарей! – сказал Бурцев, вовсе без злобы и с явным удовольствием нарезая шпик тончайшими лепестками; на последних словах он поднял голову и улыбнулся кому-то, тихо вошедшему в келью и ставшему за спиной Артёма.
То был Мезерницкий – он быстро кивнул Артёму, давая понять: сидите, сидите, – и тут же, похохатывая, подхватил разговор:
– Разница только в том, что те не хотели начинать креститься, а наши монахи – не хотят прекращать.
– Господин Мезерницкий, разве это повод для шуток?! – всплеснул руками Василий Петрович.
– Товарищ Мезерницкий, – поправил тот. – Музыкант духового оркестра Мезерницкий, имею честь! – и, без перехода, повёл речь дальше: – Хорошо, вот вам другой пример: Василий Петрович наверняка завёл тему о парадоксах Соловков – не кажется ли вам забавным, что в стране победившего большевизма в первом же организованном государством концлагере половину административных должностей занимают главные враги коммунистов – белогвардейские офицеры? А епископы и архиепископы, сплошь и рядом подозреваемые в антисоветской деятельности, сторожат большевистское и лагерное имущество! И даже я, поручик Мезерницкий, играю для них на трубе – ровно по той причине, что сами они этому не обучены, но готовы исключительно за это умение освободить меня от общих работ. Знаете, что я вам скажу? Я скажу, что борьба против советской власти бессмысленна. Они сами не могут ничего! Постепенно, шаг за шагом, мы заменим их везде и всюду – от театральных подмостков до Кремля.
Бурцев со значением посмотрел на дверь, а Мезерницкий только махнул рукой:
– Ерунда! Не далее как вчера я это говорил Эйхманису лично.
– Говорил или не говорил – дело твоё, суть в том, что всё это легкомысленно, – ответил Бурцев без раздражения и даже с улыбкой. – Ты тут уже три года, друг мой, и оторвался от реальности. Тебе видней, что там с духовыми, а с хозяйством они понемногу учатся справляться…
– Не знаю, не знаю, – прервал Мезерницкий, которому куда больше нравилось говорить самому. – Обратите, милые гости, внимание: на общих работах из числа офицеров работает только Бурцев, и то в силу его, простите, мон шер, нелепого упрямства, а остальные… – тут Мезерницкий начал загибать пальцы, вспоминая, – инспектор части снабжения, лагстароста, инженер-телефонист, агроном, два начальника производств и два начальника мастерских!.. Не всё, не всё!.. На железной дороге – наши! На электростанции – наши! В типографии – наши! На радиоузле – наши! Топографией занимаются наши! И даже в пушхозе – наши!