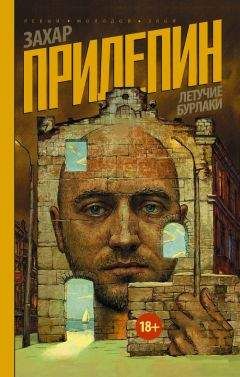Обитель - Прилепин Захар
Ещё у него, в отличие от многих, имелись вязаные, тоже с Лисьева острова захваченные носки, и осталась простынь – на свою удачу, Артём, как его поволокли из кабинета Горшкова, так и держал простынку в скрюченных руках.
Потом, лёжа в карцере, превозмогая муку во всем теле, Артём приспустил штаны и, приподняв майку, накрутил простынку на себя, чтоб согреться.
– Били-мяли тесто… Жених и невеста, – приговаривал Артём, чувствуя, что плачет, и даже от слёз лицу было больно.
Горшкову он так ничего и не сказал, только, едва начинали бить, кричал как припадочный:
– Я не знал, что Граков стукач! Не знал! Я догадался! У него на лбу написано, что он стукач! Кто ещё может работать в соловецкой газете! Я не знал!.. Я догадался!..
Горшков, как видно, пережил бессонную ночь с Василием Петровичем – и на Артёма его въедливости уже не хватило.
Били Артёма только до обеда – всего часов шесть, не больше, да и то без вдохновения и с перерывами – Ткачук ходил за пирогами в главкухню, потом они их ели с Горшковым и обсуждали каэрок, пришедших в женбарак с новым этапом, не забывая при этом коситься на Артёма: ровно ли тот стоит.
Из одиночного карцера на допрос Артёма больше не вызывали, а на другой день, затемно, ещё до гудка, погнали сюда.
В пути Артём ни с кем не здоровался и не говорил – да и возможности не было: то начинался, словно жестоко дразнясь, то затихал ливень, многие думали, что их ведут на расстрел, пока не пробежал по строю мокрый, трясущийся шепоток, что движутся они в сторону Секирки.
Каждый лагерник знал, что Секирная гора – это почти что смерть; но не самая смерть же.
Там, верил Артём, хотя бы сухо.
Хотелось как можно скорей миновать эту сырость и поползшие из-под ног несусветные грязи.
Артём успел заметить по пути купол часовни в кустах у самой Секирной горы… от часовни дорога шла вверх – там красный, несломленный крест расставил руки, встречая новых прихожан… гладко выструганные белые перильца, каменные ободки вдоль дорожек выбелены известью… на семидесятиметровой высоте Секирной горы стояла белая церковь, крытая красной жестью, – восьмигранный храм Вознесения… церковные окна скрывали бельма: красные щиты-нашлёпки… барабан-колокольня с четырьмя проёмами звона…
Венчала храм покрытая лемехом глава со стеклянным фонарём маяка.
Как душевнобольной в кустах, неподалёку от церкви торчал, моргая нехорошим и пугающим глазом окошка, жёлтый домик – там, кажется, размещалось управление четвёртым отделением соловецких лагерей.
Вход в церковь был с западной стороны. При входе имелся деревянный пристрой.
В притворах церкви – лестницы, ведущие через колокольню на маяк, но ходы были наглухо забиты. Кто-то сказал, что маяк этот видно за полсотни километров…
Лагерников облаяла чёрная собака на цепи.
Дождь, пошедший от Секирки вниз, перебирал и торопливо ощупывал деревья одно за другим, как слепой в поисках своего ребёнка.
На душе было тупо.
…Артём отжал носки и подштанники, положил их под себя, сам завернулся в простынь и лёг сверху, чтоб подсушить своим телом.
Забылся трудным, ледяным сном на час или даже на два, разбудил вопль:
– Да что ж это такое! Не расстреляют, так уморят холодом и голодом!
Все словно осмелели от чужого голоса и разом заголосили – в толпе кричать не страшно.
Самый смелый бросился к дверям и начал долбить руками и ногами.
Весь промёрзнув, Артём сел на нарах, руки тряслись, то ли от вчерашних побоев, то ли от позавчерашней могильный работы, и пошли волдырями – будто целый день рвал крапиву, в груди ломило, как от воды с чёрного колодезного дна, локти от тряски выпадали из суставов, ноги плясали…
Зато подштанники высохли.
Артём разорвал простыню на два куска, снял рубаху, на минуту оставшись совсем голым, и, все мышцы напрягая, чтоб руки слушались, наново перекрутил кусками простыни своё молотое, да недоперемолотое тело:
– Запеленался, мать, – неси сиську с молоком, – зубом на зуб не попадая, попросил Артём.
Заново надел исподнее и носки и вместе с остальными разошедшимися лагерниками заорал:
– Печку! Печку! Еды! Еды! Печку! Печку! Еды! Еды!
От крика чуть разогрелась кровь, многие орали, приплясывая, или колотили кулаками по нарам. Потом кто-то сказал:
– Тише! Тише! Что за звук? Идут?
Всё ближе и ближе звучал нежнейший звон.
Грохнул засов.
В проёме дверей появились красноармеец и чекист в кожаной куртке. Чекист улыбался ласково и обнадёживающе, как сват. В руках у него был большой колокольчик, он так и звенел им, и никто не решился этот звон нарушить криком или словом.
Красноармеец взял за шкирку первого же стоявшего у дверей лагерника и дёрнул за собой.
Дверь закрылась.
Колокольчик пошёл в обратную сторону.
Все прислушивались, как будто это был чистый знак, суливший что-то неведомое.
Всякий понимал, что, пока звенит колокольчик, ничего не случится.
Колокольчик стих – и тут же раздался выстрел.
Ночью похолодало: Артём, как и почти все в изоляторе, спал в несколько заходов: за час-другой замерзал так, что мутился разум.
Приходилось вставать и, толкаясь с другими лагерниками, ходить в полной темноте по кругу.
Снова ложился, снимал носки и как варежки приспосабливал их на руки. Снилось при этом, что растянул носок до такой степени, что забрался туда целиком – это был последний хороший сон этой ночью.

Скоро пришлось опять подниматься – стало втрое холоднее, хотя казалось – хуже не может быть.
“А если снег? – подумал Артём. – Сейчас ведь и минус одного нет, наверняка…”
Снова ходил по кругу.
Вернулись клопы, про которых Артём, после двенадцатой роты, успел забыть. Во второй их более-менее морили, в Йодпроме и на Лисьем острове – клопов не было вовсе.
Теперь клопы тревожили и помогали бороться со сном.
Кто-то, всё же закемарив на ходу, повалился на Артёма: он поймал спящего, хотел сразу избавиться от чужого человека, но вместо этого продержал его в руках чуть дольше – тёплый же.
Человек проснулся, толкнул Артёма в грудь.
“Главное – до утра, главное – до утра дотерпеть, – молил себе Артём, вышагивая. – Главное – до утра”.
После третьего заплыва в дурной сон, вынесший Артёма в натуральное ледяное крошево, облепившее тело изнутри и снаружи, попытки поспать он уже не предпринимал. Ни ходьба по кругу, ни ужимки и прыжки не могли согреть до той степени, чтоб хватило воли улечься на свои нары. Чего там делать – околеть разве.
От холода забылась и боль в рёбрах, и расползшийся по лицу изуродованный нос, и покрытые волдырями руки, и выбитая челюсть, из-за которой любое, громко сказанное слово отдавалось в затылке, как будто в мозгах ворочалась рыбья кость.
Состояние к утру было такое, что если б Артёму предложили вернуться на допрос в кабинет Горшкова – он бы побежал туда бегом.
Оказалось, что хуже холода нет ничего – даже когда Горшков бил кулаком в самое лицо, Артём мог, как в обмороке, переждать, потом отползти в угол и вдруг, сквозь своё маломыслие и звериную, кровавым носом хлюпающую тоску, вспомнить, как обижался на Крапина с его дрыном – смех! Смех, да и только.
Холод же был страшнее и Ткачука, и Горшкова – про холод нельзя было пошутить, разум отказывался видеть в этом хоть что-то забавное, мир вокруг больше не ждал никаких ответов и надежд не оставлял.
Тело застывало и молило о любой хоть сколько-нибудь тёплой вещи, как о вечной жизни, – Артём и представить не мог, сколько бы отдал за горячую кружку кипятка… Вот эту самую вечную жизнь и отдал бы – даже не за кипяток, а просто за пустую горячую кружку.
Но потом появилось солнце, и он влез на свои нары, и пытался заманить к себе, на себя, внутрь себя хоть один луч.
К девяти часам принесли еды – тот самый кипяток и по три четверти фунта непропечённого хлеба.