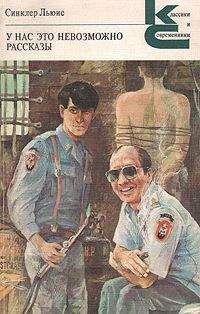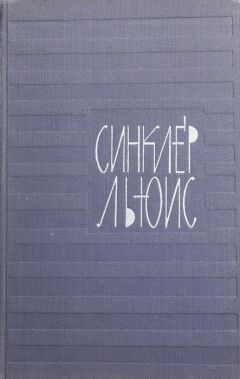Синклер Льюис - Том 6. У нас это невозможно. Статьи
Какие есть у нас учреждения?
В Американской академии искусств и литературы наряду с некоторыми замечательными художниками, архитекторами и государственными деятелями состоит такой действительно выдающийся университетский президент, как Николас Мюррей Батлер, а также великолепный смелый ученый Уилбер Кросс[78] и несколько первоклассных писателей: поэты Эдвин Арлингтон Робинсон и Роберт Фрост, свободомыслящий публицист Джеймс Трэслоу Адамс[79] и романисты Эдит Уортон, Хемлин Гарленд,[80] Оуэн Уистер,[81] Бранд Уитлок[82] и Бут Таркингтон.[83]
Но среди членов академии нет Теодора Драйзера, нет нашего самого блестящего критика Генри Менкена, нет Джорджа Джина Натана,[84] который, несмотря на молодость, безусловно, является главой наших театральных критиков, нет нашего лучшего драматурга Юджина О'Нила, нет таких истинно оригинальных поэтов, как Эдна Сент-Винсент Миллей,[85] Карл Сэндберг, Робинсон Джефферс, Вэчел Линдсей[86] и Эдгар Ли Мастерс, автор «Антологии Спун Ривер», которая так разительно отличается от прочей американской поэзии, так свежа, решительна и отмечена такой уверенностью и смелостью, что явилась настоящим откровением и положила начало новой американской поэтической школе. Среди академиков вы не найдете таких писателей, как Уилла Кэсер, Джозеф Хергесгеймер, Шервуд Андерсон, Ринг Ларднер,[87] Эрнест Хемингуэй, Луис Бромфилд,[88] Уилбер Дэниэл Стил,[89] Фанни Херст,[90] Мэри Остин,[91] Джеймс Брэнч Кэбелл, Эдна Фербер,[92] и, конечно, там нет Эптона Синклера, который — как бы вы ни относились к его воинствующим социалистическим взглядам, — несомненно, лучше всех известен миру из числа американских писателей, поэтов, живописцев, скульпторов, музыкантов, архитекторов.
Конечно, нельзя ожидать, чтобы академии посчастливилось иметь среди своих членов всех этих писателей, но учреждение, которое не сумело привлечь ни одного из них и отмежевалось почти от всего, что есть живого, развивающегося и оригинального в американской литературе, не имеет ничего общего с нашей жизнью и надеждами. Академия не представляет современную американскую литературу, а лишь одного Генри Уодсуорта Лонгфелло.[93]
На это могут возразить, что в конце концов в академии только пятьдесят мест и, естественно, она не может иметь своим членом каждого, заслужившего эту честь. Но дело в том, что, хотя в академии не нашлось места для немногих наших значительных писателей, в ней состоят три чрезвычайно слабых поэта, два незначительных драматурга, два джентльмена, известных лишь тем, что они занимают должность президентов университетов; человек, который лет тридцать назад был известен как довольно остроумный карикатурист, и еще несколько джентльменов, о которых — с грустью признаю свое невежество — я никогда не слышал.
Позвольте мне еще раз подчеркнуть тот факт — и это действительно факт, — что я вовсе не хочу обрушиться с нападками на академию. Это — гостеприимное, щедрое и, безусловно, солидное учреждение. И то, что в нее не входят наши замечательные писатели, не только ее вина. Иногда в этом повинны и сами писатели. Не могу представить себе, чтобы неуклюжий Теодор Драйзер чувствовал себя как дома на изысканных академических обедах, а если бы на них присутствовал Менкен, он бы всех довел до белого каления своими ядовитыми шуточками. Нет, я не воюю с академией, я просто с огорчением говорю о сложившемся в ней положении, потому что оно ярчайший пример отрыва интеллектуальной жизни Америки от всех действительно насущных и реальных потребностей.
Тот же отрыв, к сожалению, наблюдается в большинстве наших университетов, колледжей и школ. Я могу назвать только четыре из них, а именно Роллинз-колледж во Флориде, Мидлбери-колледж в штате Вермонт, Мичиганский и Чикагский университеты (в последнем преподавали такой блестящий писатель, как Роберт Херрик, и столь смелый критик, как Роберт Морс Ловетт), которые проявили подлинную заинтересованность в современной литературе. Только четыре. А ведь в Америке университетов, колледжей, консерваторий, богословских, ремесленных, художественных училищ столько же, сколько на улицах автомобилей. Всякий раз, как вы увидите общественное здание с готическими окнами на прочной бетонной основе, будьте уверены, что перед вами еще один университет и в каждом из них от двухсот до двадцати тысяч студентов с одинаковым усердием избегают тягот образования и добиваются общественных преимуществ, даваемых степенью бакалавра искусств.
О, с общественной точки зрения наши университеты поддерживают тесную связь с широкими массами, например, когда дело касается спорта! На футбольном матче какого-нибудь крупного колледжа присутствует до восьмидесяти тысяч болельщиков, каждый из которых заплатил пять долларов за билет и проехал в машине от десяти до тысячи миль, чтобы с восторгом посмотреть, как двадцать два человека гоняются друг за другом по причудливо расчерченному полю. Во время футбольного сезона способный игрок пользуется почти таким же почетом, как наши самые великие и любимые герои: Генри Форд, президент Гувер и полковник Линдберг.
Впрочем, владыки бизнеса отдают дань уважения энтузиастам одной из областей знания — науке. Как бы сурово ни относились наши торговцы во дворянстве к поэзии или фантазиям художника, они готовы благосклонно мириться с Милликеном,[94] Майкельсоном,[95] Бантингом[96] и Теобальдом Смитом.[97]
Но в сфере искусств наши университеты столь же изолированы, оторваны от жизни и творчества, сколь тесно они связаны с обществом в спортивной и научной областях. Для правоверного американского университетского профессора литература не есть нечто рождаемое в муках обыкновенным смертным, его современником. Отнюдь. Это — нечто мертвое, нечто волшебным образом созданное сверхчеловеками, которые лишь в том случае могут считаться настоящими художниками, если они умерли по крайней мере за сотню лет до этого дьявольского изобретения — пишущей машинки. Настоящего университетского профессора просто коробит сама мысль, что литературу могут создавать обыкновенные люди, которые ходят по улицам, носят ничем не примечательные брюки и пиджаки и внешне не очень отличаются от шофера или фермера. Нашим американским профессорам нравится ясная, холодная, непорочная и совсем мертвая литература.
Не думаю, что эта черта присуща только американским университетам. Я знаю, что профессора Оксфорда и Кембриджа сочли бы неприличным сравнивать все еще бестактно продолжающих жить Уэллса, Беннета, Голсуорси и Джорджа Мура с таким превосходным и надежно почившим мертвецом, как Сэмюэл Джонсон.[98] Полагаю, что в университетах Швеции, Франции и Германии найдется достаточно профессоров, предпочитающих анатомирование пониманию. Но можно было бы ожидать, что в такой молодой, жизнеспособной, ищущей стране, как Америка, преподаватели литературы менее аскетичны и более человечны, чем их собратья, существующие под сенью традиций старой Европы.
Оказывается, нет.
Недавно в Америке от университетов отпочковалось удивительное явление — «новый гуманизм».[99] Слово «гуманизм» употребляется в стольких смыслах, что потеряло всякий смысл. Под ним можно подразумевать все что угодно, начиная с утверждения, что древнегреческий и латинский языки более возвышенны, чем диалект, на котором говорят современные крестьяне, до утверждения, что любой ныне живущий крестьянин гораздо интереснее, чем мертвый древний грек. Но характерно уже и то, что этот непонятный культ выбрал своим девизом это непонятное слово.
Насколько я понимаю — а в нынешнем волнующем и многообещающем мире, когда жизнь преподносит такие подарки, как цеппелины, китайская революция, индустриализация сельского хозяйства большевиками, пароходы, Большой Каньон, малые дети, ужасающий голод, богоискательство, которым в одиночку занимаются ученые, — ни у одного писателя, естественно, не найдется времени, чтобы разобраться в рассудочно восторженных идеях «новых гуманистов» — эта новейшая из сект вновь утверждает дуализм человеческой природы. Послушать их, так литература должна ограничиться изображением борьбы человеческой души с богом или дьяволом.
Но вот интересно: ни бог, ни дьявол не могут носить современное платье, им необходимы одеяния греков. Для новых гуманистов Эдип — трагическая фигура, а человек, который под угрозой наступления машин в мире безудержного торгашества пытается сохранить в себе образ и подобие бога, не трагичен. Они утверждают, что цель жизни заключается в самоограничении независимо от того, чего этим можно достигнуть. Никакого другого утешения страждущему человечеству они предложить не могут. В конечном итоге не очень новая доктрина новых гуманистов сводится к тому, что главное в искусстве и в жизни — отрицание. Эта доктрина — самая черная реакция, вторгшаяся в наш беспокойный, устремленный к прогрессу мир.