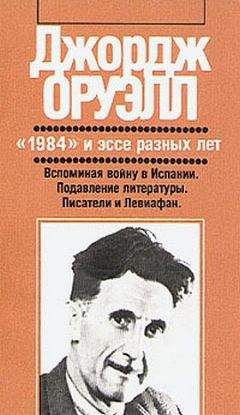Проза отчаяния и надежды (сборник) - Оруэлл Джордж
Когда-то еще Фрэнсис Бэкон подметил, что «искусно и ловко тешить надеждами народ, вести людей от одной надежды к другой есть одно из лучших противоядий против недовольства. Поистине, — писал философ и антиутопист, — мудро то правительство, которое умеет убаюкивать людей надеждами, когда оно не может удовлетворить их нужд». Теперь философ Дж. Оруэлл шел дальше, показывал нечто большее — некий вселенский «фокус», который властители научились проделывать с людьми. Смотрите, смотрите, словно говорил писатель, сначала вашими руками сражаются за власть, на вашу силу опираются, превращая себя в единственных выразителей народного движения, а потом, подменив суть, перетолковав идеалы, вырезав в них самое существенное для людей (права, свободы, культуру!), превращают это движение в инструмент манипулирования сознанием, коллективного давления на человека, покорения личности и уничтожения всего, что мешает властям предержащим… Механизм этой подмены, доказывал романист, и предельно прост, и абсолютно нов. Если в переворотах и революциях прошлых веков, свергая тиранов, монархов, диктаторов, очередные победители рано или поздно усваивали не только привычки, манеры, но и взгляды, идеи свергнутых, то поумневшие вожди нового времени, даже взлетев на вершины власти, не только не отказывались от революционной терминологии, но на словах, формально, даже продолжали как бы бороться с идеями свергнутых ими классов.
Но если в романе амбиции этих «великих инквизиторов» революций добираются до алогичных потуг доказать, что белое — это черное, что дважды два — пять, добираются до звезд, которые хотят «стереть» с неба, то в сказке дело ограничивается пока мелкими «подтирками» — переиначиванием заповедей Восстания, начертанных на стене амбара, где в одну прекрасную ночь вместо лозунга «Все животные равны» появляется надпись: «Все животные равны, но некоторые — равнее других»… Насколько «равнее» эти руководящие звери в том же романе, Уинстон и Джулия узнают и в квартире высокопоставленного чиновника Внутренней Партии О'Брайена, и, главное, в пыточных камерах Министерства Любви…
Впрочем, тут следует оговориться. Дело в том, что доказательство той или иной мысли (и в художественном произведении, видимо, тоже) требует некоторого спрямления аргументов, отбрасывания иных нюансов и тонкостей. Я покривил бы душой, если бы не сказал, что социальный максимализм, нравственный ригоризм писателя в отношении к теоретическому и практическому социализму оборачивались порой, как и положено в диалектике, некоей обратной, теневой стороной. Язвительно смеясь в сказке над попыткой воплотить в обществе равенство способностей и ума — так называемое «биологическое равенство», которого, понятно, никогда не будет, Дж. Оруэлл тем самым как бы отбрасывал и попытки человечества достичь равенства политического, правового, экономического — институтов вполне реальных и кое-где на сегодняшний день вполне достигнутых. Дискредитируя само понятие равенства, писатель, как мне кажется, не только поставил себя в ложное положение, но и не мог, по всей видимости, не обрадовать этим своих записных врагов — ненавистных ему империалистов, финансовых воротил, респектабельных буржуа, всех тех, кто не на шутку опасался и правового, и экономического, и уж тем более политического равенства сограждан. Но вот вопрос — радовала ли эта «радость» самого Дж. Оруэлла?
Ответом, как мне кажется, и на этот вопрос стал его роман, написанный через шесть лет. В нем, если говорить о сердцевинном смысле его, писатель утверждает как раз, что без решения проблем политического, экономического и социального равенства, или, как размышляет в романе У. Смит, без создания человеческих условий жизни, люди, по-видимому, никогда не станут человечнее, а не став человечнее — им не создать человеческих условий. Вот «заколдованный круг» антиутопии, неразрешимая проблема романа, доминанта размышлений героя книги — последнего человека в мире «1984».
Строго говоря, этот круг — взаимоотношения личности и общества, свободы человека и государственного порядка — всегда в той или иной мере был и побудительным мотивом создания утопий и антиутопий, и одновременно камнем преткновения, о который разбивались мечты и иллюзии сотен и сотен писателей, мыслителей, философов. «Вспомним только строгие предписания Платона, Кампанеллы, Кабе и других, — писал, например, на рубеже веков исследователь утопий А. Свентоховский. — Кто бы захотел подчиниться им, тот должен перестать быть человеком (разрядка моя. — В. Н.). Там не только действия, но даже мысли и чувства урегулированы заранее, замкнуты и распределены в обществе, как пар по трубам. За исключением анархических утопий, которые хотят ввести в человеческие отношения совершенный хаос, или идиллий в стиле Морриса, все другие утопии давят личность тяжестью коллективной воли, некоторые же (например, Морелли и Кабе) желают, чтобы общество окаменело навсегда в неизменном виде… Самая ужасная тирания никогда не стремилась к такому безусловному задержанию прогресса, как многие утопии, намеревавшиеся стереть всякую тиранию».
Эту же проблему по-своему пытался решить Оруэлл. Можно ли «улучшить человеческую природу, пока не изменена система», спрашивал писатель в конце тридцатых в очерке о Диккенсе, и, с другой стороны, есть ли польза «в изменении системы до того, как улучшена природа человека»? А в конце сороковых эта проблема уже поднималась им в глобальном масштабе: его уже не интересовали частности или похожесть своих социальных конструкций на те или иные конкретные общества, — теперь он смешивал воедино как страхи свои относительно близкого будущего, так и робкие надежды на него. Цивилизация и человек — вот о чём думал теперь Дж. Оруэлл, отгородившись и от людей и от цивилизации километрами земли и воды…
«Если ты человек, Уинстон, то — последний человек, — говорит в романе О'Брайен. — А наследники — мы. Ты хоть понимаешь, что ты один?»
Последний человек в мире страха, предательства и мучений, в мире, где прогресс будет измеряться не уменьшением, а увеличением боли и неблагодарности, в мире, который уже теперь основан на ненависти, бешенстве и упоении победой. Утверждают, что Дж. Оруэлл так и хотел назвать свой роман — «Последний человек в Европе», последний — как носитель и выразитель именно человечности. Ведь человечность толкает его героя на борьбу с мощной тоталитарной системой, и именно человечность «вышибают» из него палачи, заставляя предавать последнее — любовь к Джулии… Но, увы, книга с таким названием уже была — роман «Последний человек» (тоже довольно мрачноватую утопию) выпустила в начале прошлого века Мери Шелли. И тогда — на этом сходятся многие исследователи — Дж. Оруэлл просто поменял последние цифры года написания своего романа — 1948 — и вывел на обложке: «1984».
Что он хотел этим сказать? Являлась ли эта анаграмма намеком на апокалипсические предсказания средневекового монаха Нострадамуса? Или, как замечают некоторые, Оруэлл, писатель реалистического плана, не захотел относить свои «картины» слишком надолго вперед, как бы говоря тем самым, что если до этого рубежа мир не превратится в нечто похожее, значит, человечество минует некий кризис? Не знаю, не берусь гадать. Знаю только, что год этот — 1984 — появляется еще в одной утопии нашего века, на которую, не похожий ни на Хаксли, ни на Замятина, роман Дж. Оруэлла тем не менее похож. Я имею в виду книгу Дж. Лондона «Железная пята».
Казалось бы, какое имеет значение эта похожесть? Но если говорить об утопиях и антиутопиях, то вся история их, в отличие от прочей литературы, это, на мой взгляд, публичный, непримиримый спор по сущностным проблемам человечества всё новых и новых поколений писателей, мыслителей, учёных. Утопии, предсказывая будущее, выдвигали определённые идеалы, которые, как я пытался доказать, каждая последующая эпоха трансформировала. А поскольку жизнь меняется медленнее, чем мечталось романистам, поскольку идеалов, связанных с лучшим будущим, всегда находилось больше, нежели их может раскрыть самая полная утопия, авторы их волей-неволей вынуждены были учитывать выдвинутые предшественниками идеальные конструкции и либо принимать, либо отбрасывать их на основании уже новой действительности. Ведь и у Кампанеллы висели в городе ящики для доносов и доносительство считалось не пороком — участием граждан в управлении государством…