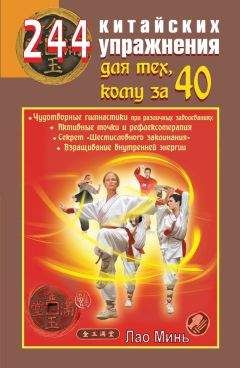Сатпрем - Мое пылающее сердце
Заставить понять нечто иное.
Но я боролся с ней. Действительно -- не могу назвать это никак иначе -- я боролся в течение... одного, двух, трех лет. На самом деле я боролся почти шесть лет. И я покидал ашрам. И возвращался. И снова покидал.
(короткое молчание)
Но однажды я решил: "Все. Теперь уж точно ухожу. НЕ МОГУ больше здесь оставаться. Не могу принять это." Не могу принять это из-за моей обусловленности... Можете вы представить себе Пондишери, маленький колониальный городок с эстрадной площадкой, сипаями и всем прочим? Весь это мир был просто ужасен для меня. Это было так противно моему способу дыхания.
Поэтому однажды я решил: "Не могу оставаться здесь. Не могу больше это переносить. Я ухожу."
Я встретил саньясина. И сказал себе: "Присоединюсь-ка я к саньясину."
Товарницки: Кто такой саньясин?
Саньясин -- это вроде монаха. "Монах" -- это просто слово, вы понимаете. Это не имеет отношения ни к какой религии. Есть люди, которые сожгли все,отказались от всего -- которые проводят тотальную революцию, так сказать. То есть, они отрекаются от ВСЕГО. И бродят по дорогам как нищие.
Поэтому я подумал: "Хорошо, может быть, это окончательное... приключение?" Сжечь все, дойти до конца -- я имею в виду, до конца КОНЦА! Я должен найти, что внутри этой человеческой плоти.
Вот что это было. Вот что направляло меня. Это не имело ничего общего с философией или литературой. Это была глубокая потребность моего существа -- потребность знать, кто был тот человек, в котором я расхаживаю, столь неуклюже, на двух ногах.
Поэтому я ушел.
Я пошел на Цейлон, чтобы присоединиться к тому саньясину.
И так началось очень странное приключение, которое было очень поучительным для меня, "негативным" образом.
Цейлон: храм, божественная музыка
Поэтому я отправился на Цейлон, на юг Цейлона.
Он был в храме. Он жил там, как нищий, в храме.
Я прибыл туда. Я нацепил набедренную повязку (которая называется дхоти, она скроена из белой ткани), соединявшуюся замком вокруг моей шеи. И затем... я спал в храме, на плитах, потому что это единственное место, где вы могли спать. Я ел все то, что обычно подают саньясинам. Я делал все, чтобы не отличаться от остальных, и поэтому намазал свой лоб белой золой. И я жил там...
Жить в том храме на южной оконечности Цейлона было для меня вроде... другого катаклизма, как в джунглях, как... Внезапно я был выброшен в СТОЛЬ другой мир, так отличающийся и все же -- не могу сказать, что я нашел или чувствовал там, но внезапно я оказался посреди другого катаклизма.
У меня нет слов для этого.
То есть: это всегда, всегда подобно тому, как спадают одежды. Спадают одежды, и вы внезапно обнаруживаете себя совершенно ГОЛЫМ, брошенным во что-то другое. Среди гонгов, ритуалов; вы спите на плитах храма, просите милостыню... я был в совершенно "эксцентричном" мире, вне всякого "центра", который бы я знал. Брошенный... в нечто очень странное.
Конечно, почти сразу же я заболел, потому что пил воду из реки. В качестве милостыни нам подавали рис -- рис, напичканный разными специями (они называют это чилис), от которых жгло мой желудок. Вскоре я оказался в довольно плохой физической форме.
Но затем, в одну из первых ночей... Вы понимаете, я был настолько "вне центра". У меня не было больше центра. И в довершении всего больной, как бы в "конце" некоторой жизни. Так что, однажды ночью, в храме, я имел переживание -- возможно, самое фантастическое переживание в своей жизни. Во сне я слышал... божественную музыку. Музыка... не могу сказать. НИЧТО, НИКАКАЯ человеческая музыка не может сравниться с ней. Это подобно "звуку", которым звучит мир -- вселенная. С гармонией величественной красоты. Не знаю, что такое "божественное", но то было "божественным". Бетховен -- я любил Бетховена (единственной вещью, которая затрагивала меня в западном мире, была музыка), но даже наиболее величественные бетховенские квартеты были ничто по сравнению с тем... РАЗМАХОМ звучания, как если бы вся ВСЕЛЕННАЯ была... звенящей, звучащей -- была музыкой.
Это было совершенно неодолимое переживание. Когда я проснулся, то сидел, не знаю, два или три часа, обхватив голову руками, повторяя: "Это невозможно! Это не возможно! Это невозможно. Что произошло?..." Я как бы стал сумасшедшим, услышав ту... ту Красоту. Ту чудесную Красоту. Я был как сумасшедший. Я все повторял и повторял: "Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно." Это была такая... божественная Красота -- это было Божественное.
Не знаю, с чем я соприкоснулся той ночью. Вероятно, я настолько ПОРВАЛ со свои обычным миром, что, должно быть, вступил в контакт с некой сферой... сферой... другой сферой, вы знаете.
Саньясин
Так я последовал за тем саньясином.
Мы пошли назад, на север, через Цейлон. И мы вернулись в Индию.
И однажды он сказал: "Приготовься стать саньясином."
В то утро мы были у реки. Он сказал: "сними одежду."
Я вошел в реку.
Он сказал: "Окунись".
Я окунулся в реке.
Затем он сказал: "Зачерпни рукою немного воды."
Я набрал воды в ладонь правой руки, несколько капель.
Он сказал: "Сейчас исполним несколько ритуалов, последних ритуалов, касающихся твоей семьи: теперь у тебя нет ни матери, ни отца, ни страны; у тебя нет ничего."
Я зачерпнул воды, и она прошла сквозь пальцы, возвращаясь назад, в реку.
Все это время он распевал санскритские мантры, такие великолепные. Санскрит -- это язык, который... подобен звучащей бронзе. И те мантры обладали такой старой, древней вибрацией. Вы чувствовали себя как бы переместившимся на тысячелетия назад во времени.
Как будто бы каждый жест... тянул вслед за собой тысячелетия. Как если бы внезапно обнажилась глубина... столь грандиозная, столь пространная, прошедшая через пески времен. Как если бы жесты, которые мы делали, имели бы множество, множество, множество жизней, были сделаны задолго, задолго раньше. Все обладало такой... прекрасной... глубиной... Это было как бы... посвящение. И я не знаю, почему это было священно, но... в этом наслоилось множество веков: в тех жестах, в тех звуках... том ритуале.
Я вылил в реку те капли с моей руки.
Я был голым.
Он сказал: "Пошли".
Мы подошли к маленькому храму. Там были другие саньясины. Мы разожгли костер. Я был голым. Я сел перед огнем. И саньясины начали распевать санскритские мантры.
Он рассказал мне о жестах, о тех вещах, которые я должен был делать. Но всегда это был один и тот же жест: вы "бросили" что-то в огонь (в символической форме рисового зерна или масла). Вы бросали... все. Вы бросали даже ментальные представления. Вы выбрасывали ВСЕ возможные представления. Вы все клали в огонь. Вы клали добро, зло, печаль, радость. Все "да" и "нет" мира. Вы выбрасывали все: я не хочу радости, я не хочу печали, я не хочу добра, я не хочу зла. Я хочу Вещь такой, какой она ЕСТЬ -- то есть, неизменной, всегда. ЭТА Вещь... она не меняется.
(короткое молчание)
А когда всесожжение было закончено, он дал мне оранжевую одежду (типа дхоти или набедренной повязки, не знаю, как назвать это), которую вы оборачиваете вокруг себя, четки из шариков рудракши, чтобы повторять мантры, и медную чашку для еды и питья. И я был ничем, кроме как тем нищим, который сжег все.
Затем я странствовал по дорогам. Я ушел. Я прошел через всевозможные вещи.
Он прошел немного со мной. Он заставлял меня менять поезд за поездом, за поездом, пересекая всю Индию; спать на железнодорожных станциях под свистки паровых машин. Он пытался... РАЗБИТЬ меня еще одним образом.
Я проводил недели в индийских поездах, в удушающей жаре, в повсеместной грязи, спал на железнодорожных платформах. И москиты и все... это был какой-то кошмар, в котором я больше не отличал ночь ото дня, не понимал, гуляю ли я или сплю.
Казалось... что уже ничего не осталось, что можно было бы разрушить.
Больше нечего было разрушать. Я был... превыше и вне... Вы не можете разрушить это.
Товарницки: Но Вы все еще ждали чего-то?
Да -- узнать, КУДА все это приведет. КУДА все это ведет?
И я отправился в Гималаи.
Я еще немного попутешествовал.
Но довольно скоро нечто произошло... потому что... я действительно искал то... что ЕСТЬ, что ИСТИННО, вы знаете.
И та милость, которая всегда присутствует, дает вам ответ.
Обнаженный саньясин
Однажды, в Гималаях, я повстречал того, кого называют нанга-саньясин.
Это обнаженный саньясин.
Он не носит даже набедренной повязки; у него ничего нет. Он голый.
Он был молодым, он был статным! Он был красивым; он бродил по дорогам, распевая. Он был голым, только с кимтой. (Такой саньясин должен был разжигать огонь везде, где он останавливается; поэтому они всегда носят с собой так называемую кимту -- нечто вроде каминных щипцов). И эти щипцы бренчат в такт шагам саньясина, видите ли -- они резонируют.
Так он странствовал по дорогам и пел, обнаженный, со своей резонирующей кимтой. И он был так наполнен радостью...