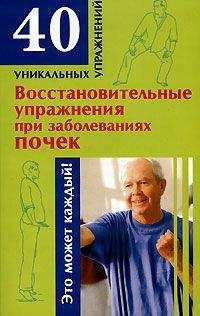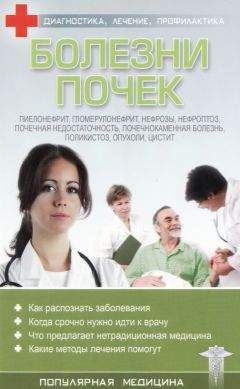Александр Говоров - Санктпетербургские кунсткамеры
— Скажи, ваше сиятельство, как мужа твоего звали, кто он был?
Подумав, она отвечает:
— Фендрик.
— Так ведь это слово немецкое, и означает оно — прапорщик. Это, видимо, его звание. А ты скажи уж нам, ваше сиятельство, каково было его христианское имя?
Но на это ответить она не умеет.
— Так, может, его звали Генрих?
— Точно так, — отвечает, — Гендрик.
— Так как же все-таки — Фендрик или Гендрик?
На это она опять пожимает плечами.
— А как вы в семье-то его звали?
— Никак, — удивляется она. — А зачем было его звать? Мужик он и есть мужик. Ежели надо позвать, так и звали — мужик!
Сама Христина на границе Лифляндии имела корчму, сиречь постоялый двор, немалые имела дивиденды. Однако, получив призыв сестры-царицы брать детей и ехать в Санктпетербург, она нарядила всю свою семью в невообразимые лохмотья.
— Матушка! — сказал ей рижский губернатор, обозревая перед посадкой в императорские кареты. — В таком виде ехать невозможно. Вот изволь видеть — мы заготовили тебе платье-роброн,[8] серебряной парчи ушло четырнадцать футов, вот сыновьям твоим шитые кафтаны от лучших ревельских портных…
Переодевшись после долгих уговоров, Христина лохмотья тщательно собрала, и в узелок завязала, и всюду с собой носила, под подушку клала. Пока однажды узелок от ветхости не лопнул, и из него дождем посыпались и алмазы, и жемчужины, и монеты золотые…
— Хо-хо-хо! — смеялись слушатели, хотя не без некоторого почтения. Еще бы! Вот что значит господин его величество случай! Наливали герольдмейстерскому канцеляристу еще рюмочку и просили: — Ну, еще чего-нибудь!
И Шумахеров приятель продолжал.
В Ревеле при посадке на санктпетербургский корабль требовалось заполнить шкиперский журнал.
— Как, ваше сиятельство, твоих принцев-то звать?
— А зачем вам? — насторожилась Христина. Ей памятны были порядки при шведах — тогда раз имя в реестр спишут, считай, что забрит в драгуны.
— Ну, вот видишь, ваше сиятельство, порядок такой…
— Незачем, — отвечала она категорически. — Бог знает, а вам ни к чему.
— А скажи тогда, ваше сиятельство, сколько твоим принцам лет?
— Старшенькому поболее, меньшенькому поменее.
И весь ответ.
Старшенький принц был еще ничего — с утра, еле надев портки, выпивал ковшик водки, но рассуждал разумно. Младшенький же, как говорится, был совсем богом обижен, или, как называет сей случай медицина, — деменция имбецилис.
Дойдя до этих мыслей, Шумахер поправил пальцем накрахмаленное жабо[9] на потной шее. А как утром в первый день проснувшиеся принцы с изумлением рассматривали уродов и скелетов, которые их окружали! Наверное, станут просить у царицы другой дворец. А Христина все ахала и спрашивала: сколько вот это стоит, а сколько то. И вспомнилось вдруг, что, спускаясь по лестнице, чтобы ехать ко двору, Христина увидела под ногами на ступенях какую-то блестящую штучку. Она вся извернулась в своих негнущихся робронах, а штучку ту подняла и спрятала за корсаж.
Шумахер встрепенулся от внезапной догадки. Да это же и есть философский камень! Она его подняла!
Он сначала отверг это предположение, потом подумал: почему бы и нет? Христина по своей первобытности едва ли понимает истинную цену находки.
Сердце зашлось от предвкушения удачи. Но дело это тонкое, тонкое и придворное, как бы не опростоволоситься с ним, как с перпетуумом мобиле.
За окном послышался стук копыт, окрик часового. Вошел Максим Тузов, доложил:
— Фельдъегерь от государыни. Принцам Гендриковым пожалован дворец. Указано: пожитки их собрать и в великом бережении туда отправить.
Шумахер снял парик и принялся обтирать потную лысину.
6
Если встать на балюстраде возле Кикиных палат, с возвышенности видна вся округа.
За рощей Нева катит свои спокойные воды. Здесь она делает поворот к морю, и образуется мысок, который в народе зовется Смоляной буян. Там, среди осушенных болот, чернеют вышки Смоляного двора. Его смолокурни день и ночь выбрасывают тяжелый, едкий дым. Если подует ветер с Ладоги, от дыма этого хоть в погреб залезай.
А на бугре, среди молоденького парка, высится, как игрушечка, Смольный дворец. Построен был он царем Петром для младшей дочери, любимицы Елисавет. Там и померанцы в кадушках, и зверинец, и катальные павильоны — чего только нет. Но простолюдину туда путь заказан — стоят усатые преображенцы в медных шишаках.
По санктпетербургской дороге вдоль течения Невы-реки тянутся заборы Шпалерного[10] двора. Там хамовницы,[11] вольные и невольные, стучат станками, ткут ковры-шпалеры и для двора, и для придворных, и просто на продажу. У кромки воды — чертоги цариц и царевен, иные уже заколочены: вымирает петровское семейство. Над лесом возвышается лютеранская кирка, и время от времени слышен заунывный звон ее часов.
А на юге, с солнечной стороны Кикиных палат, как раз насупротив их резного, вычурного крыльца, там русская Канатная слободка. Раскинулись огороды, курятники, баньки, амбары по берегам извилистого ручья.
Для изобильного приготовления снастей и канатов, российскому флоту потребных, в слободе поселены были знатоки пенькового и крутильного искусства, веревочной хитрости, переведенные сюда из других городов. К тому же и смолить ту вервь[12] было здесь сподручно — Смоляной двор рядом.
На торфянике строили, били сваи в черную грязь, плодородную землю в лукошках доставляли. Зато теперь там и сады, и огороды, и яблоньки цветут, как где-нибудь в Рязани.
И все равно мертва эта земля, рассуждают старики. Комарье кругом, хлипкая жижа. А болотная сизая марь по вечерам, от который грудь кашлем заходится и вольная душа изнывает!
Как и весь новооснованный Санктпетербург, слобода была распланирована по линеечке. Изб и шалашей разных не строили чтоб — ни-ни! Каждому переведенцу казенными силами дом был выстроен, по чертежу, образцовый. А за дом сей жалованья вычитать следовало двадцать лет.
Но обычаи в казенную, по ранжиру строенную слободу перешли из самой что ни на есть исконной Руси. На качелях качаются, в баньках парятся до изнеможения, песни поют по вечерам.
И на завалинке сбираются как на какой-нибудь парламент. Хороша завалинка у образцового дома вдовы Грачевой; защищена и от смоляного дыма едкого, и от солнцепека, а напротив, как раз у мостика через ручей, возвышается блистающий зеркальными окнами Кикин чертог.
Приходит бурмистр, сиречь цеховой староста, по фамилии Данилов, с золоченой цепью во весь живот, поигрывает ключиками от чуланов, где лежит его имущество. Является бездельник карлик Нулишка, который, хотя и монстр, но происхождения дворянского. Присутствует и вдовы той нахлебник, студент Миллер, в жалких очочках, которого никто иначе как Федя не называет. Тут, наконец, и главный закоперщик всяких бесед — отставной драгун Ерофеич, промышлявший трепанием конопли.
Пеший ли, конный ли — все завалинке той пища для рассужденья. Пока идет он или едет, завалинка молча грызет орешки или щелкает тыквенное семя. Следуя мимо, он непременно завалинке всей поклонится, и завалинка обязательно ответит, а у кого есть шляпа или хотя бы треух — приподнимет.
А уж когда путник, скроется из виду, тут завалинка даст себе волю — все косточки перемоет.
— Гляньте! — пропищал карлик Нулишка. Таков уж у него был голос пронзительный. — Гляньте! От Кикиных палат уже третий воз с пожитками принцев отъехал.
— Не успели принцами заделаться, уже пожитки возами возят.
— Каждого одень, обуй, — сказал отставной драгун Ерофеич, доставая кисет с табачком. — Да не по-простому, по-княжескому.
— Да накорми, да напои! — волновалась завалинка. — А на торжищах-то — шаром покати.
Боязливая вдова охнула из окна своей кухни:
— Ох, господа хорошие, вы говорите, говорите, а до Тайной канцелярии не доведите.
— Кого тут бояться? — взвизгнул Нулишка. — Тут все свои.
— Свои-то свои… — усмехнулся Ерофеич, наскреб в кисете табачку и двумя пальцами засунул в нос. — А как бы не случилось, как в Святогорском монастыре.
— А что случилось в Святогорском монастыре? — воскликнула в один голос завалинка, предвкушая интересный рассказец.
— А там инок[13] Варлаам, отменного жития старец, рассказывал братии, будто царя нашего за рубежом подменили, прислали взамен басурмана. Тот и пошел всем бороды брить, головы сносить. Всех обольстил, только сын его богоданный, царевич, правду ту прознал, за что его басурман мучениям подверг.
Ерофеич сладко зажмурился на заходящее солнце и чихнул, будто из пушки выстрелил, а завалинка ждала продолжения.
— Сам ты басурман, — сказала вдова Грачиха, хотя в своем окошке тоже ждала продолжения.