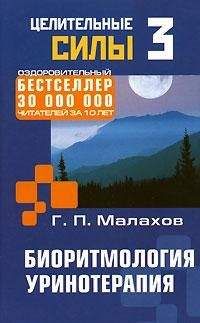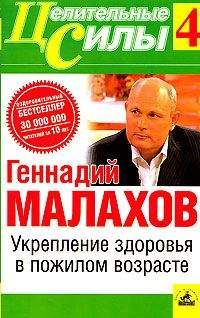Иван Дроздов - ГЕННАДИЙ ШИЧКО И ЕГО МЕТОД
Умом я понимал правоту рассуждений Геннадия Андреевича, а сердце протестовало. Все-таки содержалось что-то обидное, унижающее во всем, что говорилось о моей психологии, о сознании, внутреннем мире — о том, что составляло главную суть моего «я», чем втайне я дорожил и что свято хранил от всяких внешних вторжений.
Наступила пауза — долгая, неловкая. Все думали о природе винопитий, казавшихся невинными нам всем, в том числе и Федору Григорьевичу, который еще до войны начал борьбу за трезвость — писал статьи, читал лекции о вреде пьянства. За столом у Угловых выставлялись бутылки вина, а иногда, в зависимости от гостей, и коньяк. И Федор Григорьевич вслед за Эмилией Викторовной, приглашавшей гостей выпить хоть глоток, отпивал вместе с ними.
Да, мы пили, но так немного, что считали себя непьющими.
Люция Павловна, наклонившись ко мне, тихо проговорила:
— А вы попробуйте совсем не пить. Совсем-совсем. Ну вот как мы. — Взглядом она указала на графины и графинчики с соками, стоявшие на столе. — Ведь это же свобода, это — независимость. Полезно и красиво.
В разговор вновь вступил Геннадий Андреевич.
— Наконец, исполните долг гражданина.
— Каким образом? — не понял я.
— Послужите примером для других. Глядя на вас, и близкие ваши, и друзья задумаются. А может, и совсем перестанут пить.
Мне, естественно, хотелось проявить по отношению к хозяевам, особенно к хозяйке, деликатность;
— Да, да, конечно — я попробую...
— Вы обещайте! Это очень важно, если вы сейчас же, вот здесь, скажете нам: пить не стану. Ни капли. Никогда!
— Разумеется. Я — пожалуйста, если хотите...
— Очень, очень я этого хочу — чтобы вы не пили. И он вот, ваш друг Федор Григорьевич, и жена ваша Надежда Николаевна — все мы очень хотим... Ведь вы литератор, пишите книги, статьи, учите других не пить, а сами хоть и понемногу, но позволяете.
Люция Павловна убеждала, но мягче и мягче, она уже не говорила: «Вы пьете... пьющий», а — «Позволяете...», слышала мою податливость и как бы «дожимала» меня, подводила к той черте жизни, за которой начиналась абсолютная трезвость. И хотя вся сущность моя протестовала, но где-то глубоко в сознании упорно шевелилась, нарастала мысль, что она права, она желает мне добра, эта кареглазая, мягко и нежно улыбающаяся женщина.
И я сказал:
— Обещаю вам — пить больше не буду.
— Совсем?
— Да, совсем. Ни капли никогда!
На обратном пути мы некоторое время ехали молча. На этот раз наш путь лежал по проспекту Смирнова, пересекал Черную речку, печально знаменитую дуэлью, во время которой был смертельно ранен Пушкин. Вечерний Ленинград, отражаясь то в водах Черной речки, то Большой, то Малой Невки, стелил тысячи огней, и чудилось, что небо поменялось местами с землей и звезды летели нам под колеса. Я думал о своем обещании не пить — никогда и ни капли! — временами жалел, что лишил себя удовольствия изредка в кругу друзей поднять рюмку с хорошим вином, являлись дерзкие мысли нынче же нарушить обещание, но, украдкой поглядывая на свою жену, на Углова и Эмилию Викторовну, понимал, что нарушить слово свое не могу и что не пить вовсе — это теперь моя судьба, мой новый стиль застолий.
Несмело, неуверенно заговорил:
— Я, кажется, сдуру...
— Что? — встрепенулась Надежда. — Уже на попятную? Нет, голубчик, ничего не выйдет. Если притронешься к рюмке, всем расскажу, как ты давал обещание, сорил словами.
Ее поддержала Эмилия Викторовна.
— В самом деле, друзья! Как можно совместить ваши призывы к трезвости с вашим же пристрастием... ну, хотя и легким, к винопитию. Признайтесь, нелогично это.
И она рассказала, как однажды их маленький сын Гриша, завидев в руках отца рюмку, крикнул: «Папа! Ты же сам говорил: вино — яд, оно вредно!» Заплакал и убежал к себе в комнату.
— Да, было такое. А теперь вот и она, Люция Павловна...
— Что и говорить, — закреплял я только что внушенные мне убеждения, — логики в нашем поведении никакой. Если уж не пить, так не пить. И что уж тут вилять хвостом.
— Ты полагаешь, — сказал Углов, — мы с тобой до нынешнего вечера виляли хвостом?
Все засмеялись. И, кажется, это был момент, когда мы все четверо, сидящие в машине, окончательно перешли ту полосу жизни, за которой начинается абсолютная трезвость.
Теперь, когда со времени этой встречи прошло много лет, могу заявить: суровая правда суждений Геннадия Андреевича, простые, сердечные вопросы Люции Павловны и ее будто бы наивное изумление перед фактом нашей веротерпимости внесли перемены в наш семейный уклад — напрочь были отринуты рюмки, и все последние годы в доме нет алкоголя. Сами не пьем и не угощаем этой отравой своих гостей.
Некоторые из моих приятелей, зная о моем знакомстве с Угловым, нередко просили определить в его клинику то одного больного, то другого. У Федора Григорьевича в таких делах принцип: в помощи он никому не отказывает, но и очередность жаждущих у него полечиться, по возможности, не нарушает.
Как-то моя старая знакомая, в прошлом балерина из труппы Большого театра Елена Евстигнеевна стала рассказывать печальную историю своего сына Бориса. Он рано пристрастился к вину, страдал ожирением и болезнью сердца. К тридцати годам выглядел совершенно разбитым человеком.
— Не поможет ли ему Федор Григорьевич? — заключила она свой рассказ.
— Чем же он сумеет ему помочь? — спросил я не очень тактично. И чтобы загладить неловкость, сказал:
— В Ленинграде есть ученый — Шичко Геннадий Андреевич. Он будто бы своим особенным методом освобождает пьющих от пагубной привычки.
Последние слова произнес неуверенно: я хоть и сам убедился в способности Шичко и его супруги, но метода не знал, пациентов его не видел.
«Может ли он, в самом деле?»
Елена Евстигнеевна ухватилась за эту последнюю возможность и попросила меня поговорить с Борисом.
— Шаманов не признаю, — заявил тот, — и на поклон к ним не поеду, но вот если можно полечиться в клинике академика Углова... Он, говорят, делает какие-то уколы — Борис посмотрел на мать.
— Сердце у меня болит, понимаешь? А ты... Врач мне нужен, а не знахарь.
— Хорошо, хорошо. Согласна...
За день до отъезда в Ленинград Борис Качан навестил Володю Морозова, школьного товарища, работающего врачом в одной столичной больнице. Поговорили о новых формах лечения, о блокаде сердца.
— Блокаду мы знаем, — заявил Морозов. — Тут есть статистика.
— Знаете, а не делаете. Почему Углов может, а вы — нет?
— Блокаду делает не он один. Кстати, и у него в клинике операцией овладели молодые врачи.
— Операцией? — Борис как огня боялся этого слова.
— Ну, не совсем она операция, скорее процедура, но... Сложная, требует большой точности. Длинная кривая игла вводится в область сердца.
У Бориса по телу пробежал неприятный холодок.
— Своеобразный укол, — продолжал Морозов, — игла проходит вблизи сосудов, нервных узлов — входит глубоко, и через нее изливается большая доза новокаина, витаминов и других компонентов. Есть известная доля риска, но у Федора Григорьевича Углова осложнений не отмечено. Шансы стопроцентные!
— Там еще Шичко есть, гипнотизер какой-то — о нем ничего не слышал?
— Нет, о Шичко не слышал, но вообще-то в силу убеждения, воздействия на психику — верю. Если предлагают — сходи. Только без этого твоего вечного скепсиса. Ты, Борис, извини, но когда речь идет о здоровье — скепсис плохой советчик. Это я тебе как врач говорю.
В купе собралась теплая компания. Федор Иванович, главбух завода кровельных материалов, ехавший из Рязани, выставил бутылку коньяка. Борис сказал себе: «Ладно уж, в последний раз».
И только Николай Васильевич, лектор из общества «Знание», сидевший напротив майора милиции, замахал руками:
— Нет, нет. Я не пью.
— Ну, это вы бросьте! Рюмочка коньяка еще никому не повредила. Я вот лет тридцать употребляю, и... как видите...
— Вам на пользу, — Николай Васильевич с нескрываемой иронией оглядел внушительную фигуру бухгалтера, — а меня увольте.
Бориса Качана словно бы кто толкнул в спину: он отпил глоток и поставил стакан. Остальные осушили до дна.
— Мой сосед, видимо, культурнопитейщик, — сказал Николай Васильевич, бросив на Качана укоризненный взгляд.
Все насторожились и повернулись к Борису.
— Как это? — спросил майор милиции.
— А так. Пьет по случаю, понемногу — признает пьянство как привычку, норму поведения. Такие люди сами пьют редко, но другим не мешают. И никого не осуждают. А если соберется теплая компания, то и они со всеми вместе, и даже подзадорят — давай, мол, давай. Если бы из пьющих людей можно было составить пирамиду, то в основании ее находились бы они, пьющие «культурно». Своей примиренческой философией такие люди допускают самую возможность винопития. Они как бы говорят: не в вине надо искать зло, а в тех, кто не научился пить. А того не разумеют: рюмка тянет за собой вторую, третью. Сегодня рюмка, завтра рюмка, а там, смотришь, человек уже в канаве.